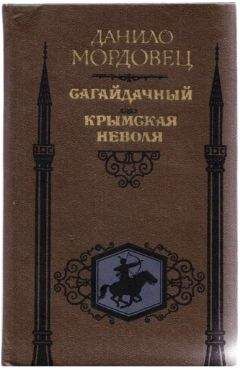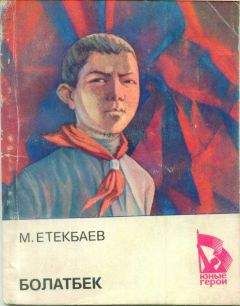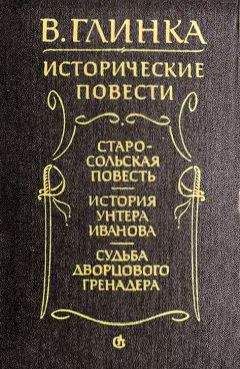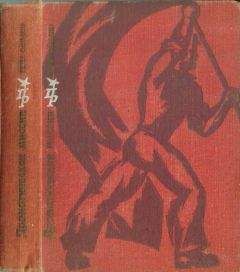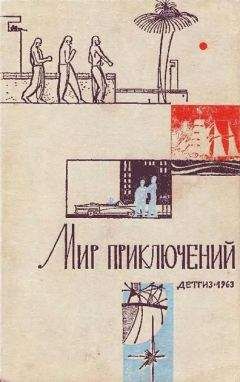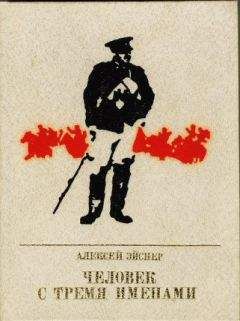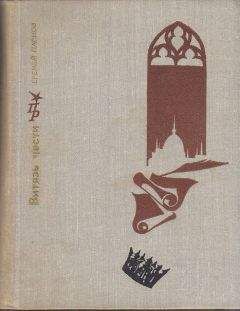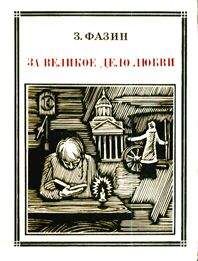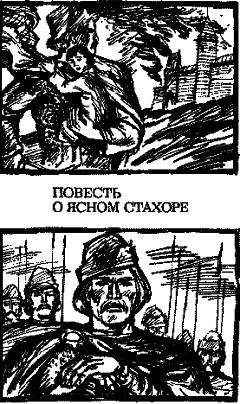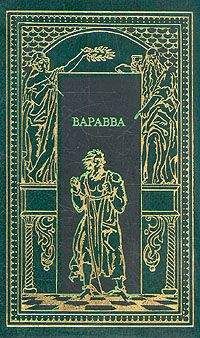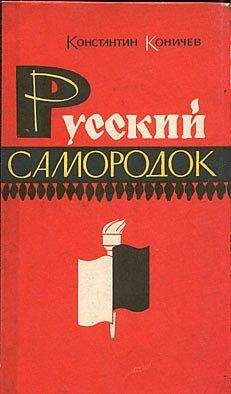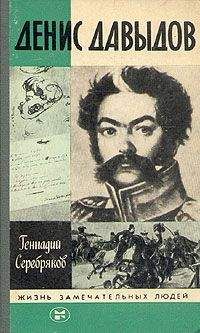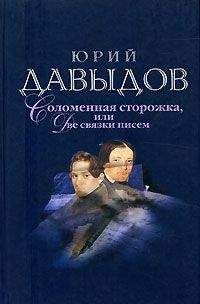Юрий Давыдов - Вечера в Колмове. Из записок Усольцева. И перед взором твоим...

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Вечера в Колмове. Из записок Усольцева. И перед взором твоим..."
Описание и краткое содержание "Вечера в Колмове. Из записок Усольцева. И перед взором твоим..." читать бесплатно онлайн.
Повесть о Глебе Успенском рассказывает о последних, самых драматических годах жизни замечательного русского писателя. Но вместе с тем она вмещает все его нравственные искания, сомнения, раздумья о русском народе и его судьбе. Написанная ярко, страстно, повесть заставляет сегодняшнего читателя обратиться К нравственным проблемам, связанным с судьбой народа. В книгу включены повесть о русском мореплавателе и писателе Василии Головнине, а также в сокращенном варианте «Дневник Усольцева», ранее печатавшиеся в издательстве «Молодая гвардия».
Успенский ронял пепел на лацкан пиджака, на скатерть. Он не чувствовал ни гнева, ни раздражения, ни обиды. Он тосковал какой-то последней тоской. Не черной, не смурой, а так, последней, и все тут. Не слушая, он слышал. Он молчал, а ведь молчать-то можно о многом. Он и молчал таким молчанием.
Высшее искусство, гений? О, гении видят жизнь словно бы сверху, а решетниковы барахтаются в безобразной житейщине. Гармоническая ясность слога? Да откуда ж ей взяться у решетниковых? Они кричат, большим своим ртом кричат, а кто ж, господа, кричит мелодически?.. Нет философии, выраженной художественно? Да она у него как лесная жимолость, осыпанная волчьими ягодами; жимолость сильно пахнет перед дождем, а волчьи ягоды и волки не едят…
Он хотел уйти незаметно, но в просторной прихожей, ярко освещенной, его догнала курсисточка, такая костлявенькая, в очечках, носик чижиком, никак не заподозришь amoroso1. И точно, она лишь хотела «высказаться». Максимов тотчас изобрел бы какой-нибудь обманный маневр и увильнул бы, Успенский эдак не умел.
Извозчик еще не успел взять с места, а она уже «высказывалась». Странно, у нее был приятный голосок, гневно позванивающий на словах – «идейность», «идейный», повторенных многократно. Успенский поднял воротник пальто и втянул голову в плечи, но все равно «идейный», «идейность» вились, как пчелы. Она говорила быстро, возбужденно, и это ее возбуждение отзывалось мелким подрагиванием перышка на шляпке.
Барышня тоже осуждала Решетникова. Но не по кодексу эстетики, а по кодексу этики: Решетников не был идейным писателем, идейным человеком, ибо идейный писатель не ищет забвения в водке, а так как неидейный Федор Решетников находил забвение в водке, то и был он всего-навсего графоманом и таковым бы и остался даже и в том случае, если бы разбогател, ибо не был человеком идейным… Злиться было глупо, но Успенский разозлился, и эта его злость была запоздалой реакцией на давешнее, застольное, однако и барышне тоже адресовалось с ее звонко-гневными «идейность», «идейный».
– А известно ли вам, сударыня, – перебил барышню Успенский, – известно ли, что такое тупые ножницы? И эта женщина с Васильевского острова? В газетах было, читали, а? – Барышня будто поперхнулась, вытянув шею, смотрела на Успенского испуганно, указательный пальчик тыркался в переносицу, никчемно оправляя очки. – Не знаете про женщину, а? – не унимался Успенский. – Ну вот, вот, а туда же – «идейность»!
– Не понимаю, – оробела барышня, – извините, не понимаю, Глеб Иванович.
– Вот то-то и оно, ни черта лысого не понимаете, – продолжал Успенский с несвойственной ему грубостью и уже немного устыдившись этой своей грубости, однако не настолько, чтобы простить Федину «неидейность». – Тупые ножницы, сударыня, это… Нет, вообразите, вообразите, если можете: у вас появилась некая настоятельная мысль, ее надо высказать, она вас жжет, но тут-то, сразу же – другая мысль, встречная: а как бы эту первую, для тебя важнейшую, как бы это ее, голубушку, ослабить?! Ну, сами понимаете, для чего – да-да, чтоб цензура не угостила, чем ворота подпирают. И вот ты вертишься, как на сковородке, ты сам ослабляешь свою мысль, и это-то изнуряет, сударыня, изнуряет донельзя. Но все равно тупые ножницы цензурного комитета не минуешь. А они-то не бечевку стригут, не волоса, они нервы кромсают. И вот, извольте, сударыня, радоваться, распродался ваш покорный слуга построчно, полистно, осталась вешалка без сюртука. И стыдно, и тоска, и такое, знаете ли, чувствие, будто солдатскую шапку жуешь. Не жевали? Попробуйте! А вы-то со стороны: раз идейный писатель, сиди и пиши про народ. А я вот своих товарищей, вконец и нуждой, и цензурой, и редактором изглоданных, да я ж их то и дело в больницу везу: белая горячка. Э, думаешь, наложу-ка на себя руки, не могу больше, сил нет. Одно останавливает – вашей сестры боюсь: «Ах, – скажете, – не идейный писатель был Глеб Успенский!» – Он усмехнулся. Бедная барышня не знала куда деваться, готова была из пролетки выскочить. – Нет, погодите-ка, раз уж мы «высказываемся», то давайте-ка и про Васильевский остров…
И все так же горячо, все так же волнуясь, он рассказал историю, действительно, страшную, происшедшую в одной из василеостровских линий. Какая-то карга из каких-то низменных расчетов заточила женщину, кажется, родственницу, в чулане. И, заточив, держала там, пока случайно все не обнаружилось, пятнадцать лет.
– Вы можете представить, какова была женщина, выйдя из чулана? – Барышня, поникнув, поняла, куда он клонит. Он сказал горько, почти с отчаянием, сказал не только этой барышне, а и тем просвещенным, – «у Решетникова гармонии нет, палитра скудная», – этим тоже сказал: из чулана, господа, и Решетников, и все мы, да-с, из чулана.
Дальше ехали молча. Барышня все порывалась «не затруднять» Глеба Ивановича, она, мол, доберется, но он, не говоря ни слова, удерживал ее за рукав, и она как-то виновато покорялась, а ему было немного конфузливо: эва, из пушки-то по воробышку.
Показалось какое-то фабричное строение. На воротах фонари сидели, как филины. Извозчик придержал пролетку – ворота отворились, с фабричного двора потянулись ломовые телеги, волоча по булыжнику гром колес с чугунными ступицами. А следом тяжелым, желтым, махристым духом натекал запах производственный: то была фабрика фосфорных спичек.
Успенский высадил барышню у подъезда обшарпанного доходного дома и поехал к себе, в Серапинскую. Хотя пролетка давно миновала фабрику, смрад преследовал Успенского. Войдя в номер, он, не раздеваясь, только шапку бросил, склонился над умывальником, долго полоскал рот, отхаркивался, отплевывался, сморкался, пока не убедился, что уже не чувствует желтого, тяжелого, смрадного. На всякий случай, как бы вторя движениям Максимова, он распахнул форточку. Но едва распахнул, как гнусная желтизна натекла опять, и это был запах, который губил фабричных, и это был запах чулана, который губил решетниковых, его, Глеба Успенского, тоже.
Переговоры о контрабанде, происходившие в приморской ресторации между капитаном Максимовым и писателем Успенским, завершились успешно. Два дня спустя пароход «Владимир», обновленный севастопольскими мастеровыми, пришел в Одессу и встал под погрузку.
В уездном городе Одессе правил бал Меркурий. Пароходы трубили, как тритоны. Пестрые флаги, как сороки, тараторили на ветру. Судовые рынды отбивали склянки. А высоко над рейдом, на сдобных подушках из дыма и мятого пара, возлежал бог торговли. Все здесь повиновалось ему – пароходы и парусные шаланды, шкиперы и матросы, подрядчики и артели грузчиков.
«Владимир», седея от пыли, оседал до ватерлинии. Счет шел четвертями. Не казенными, в девять пудов, а теми, что назывались нижегородскими – двадцать четыре пудика каждая. Четвертями поступала в трюм благодать Новороссии, пшеница-арнаутка, твердая, весомая, челночком. А рядом тяжело вздыхала машина собрата «Владимира» по ломовой работе на линии Одесса – Марсель. Цепь, тащившая якорь, клацала соединительными скобами.
Из этого аляпистого звука возник гимназический инспектор, стал рядом с Успенским и тоже смотрел на портовый город Одессу, на рейд, пароходы, шаланды. Потом сказал: «Ты видишь, мы расширили свои пределы…»
Инспектор не только инспектировал гимназию, а и преподавал историю Российской Империи. Исполняя обязанности инспектора, он пламенел страстью к фрунтовому порядку: пусть в одном классе сидят Ивановы, в другом – Петровы, в третьем, скажем, Смирновы; он занумерует каждого, как однофамильцев-офицеров. И чтобы все-все с окончанием на «ОВ». Как учитель истории он знал другую страсть. Указкой-шпагой пронзал супостатов: «Мы взяли… Мы покорили… На плечах отступающего противника мы ворвались…» И в заключение восклицал: «И вот мы расширили свои пределы от… и до…» Гимназисты, притаив дыхание, воодушевлялись гордой слитностью своего мизерного, с поротой задницей «я» и ребросокрушительного «мы», способного всем языцам дать карачун.
Ах, инспектор, инспектор, плохим учеником оказался Успенский Глеб, совсем плохим. Весной и летом ездил по Новороссии и думал не о Потемкине, а о том, сколько же пролилось кровушки чудо-богатырей. А сейчас с палубы видел море, и тоже думал о кровушке чудо-богатырей. Минувшее «от и до» очерчивалось штыком-молодцом, нынешнее – оралом. И завершалось вот этими нижегородскими четвертями. В минувшем были отцы-командиры и реляции; в нынешнем – живорезы и гешефты.
Успенский не писал: «буржуа», Успенский писал: «буржуй».
Буржуа учиняли революции и совершенствовали не только колбасные изделия, но и машины. А Тит Титыч, хапнув дворянские родовые, облапил мамзелю: гы-гы-гы, что хошь куплю, что хошь продам; эй кто там? шампанского и паюсной икры… Буржуазии не было, была буржуйная орда. Впрочем, Тит Титыч уже прельщались «рыском»: мериканцы, которые в Америке: у тех, слышь ты, рыск. Ловкий народ, деньги сами в карман плывут, знай только рыск… Они путали «риск» и «рыскать», но из путаницы этой уже произросла вереница дармоедов – «от» пахаря «до» здешних артельщиков и матросов.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Вечера в Колмове. Из записок Усольцева. И перед взором твоим..."
Книги похожие на "Вечера в Колмове. Из записок Усольцева. И перед взором твоим..." читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Юрий Давыдов - Вечера в Колмове. Из записок Усольцева. И перед взором твоим..."
Отзывы читателей о книге "Вечера в Колмове. Из записок Усольцева. И перед взором твоим...", комментарии и мнения людей о произведении.