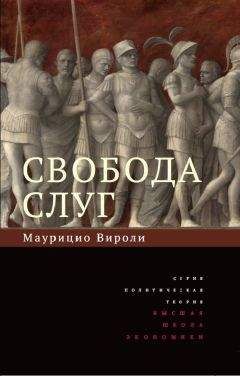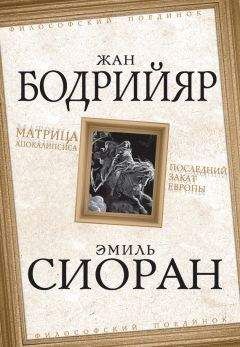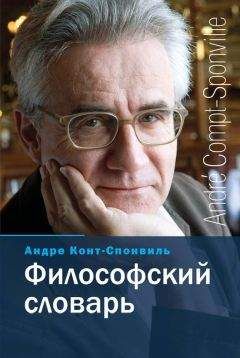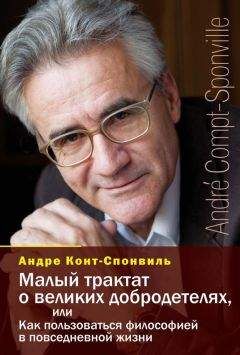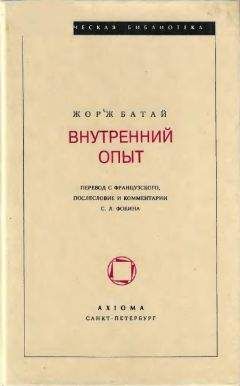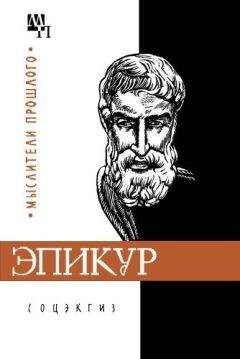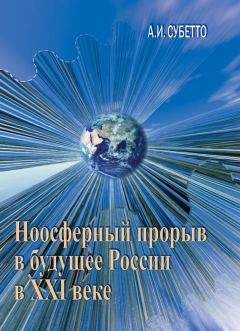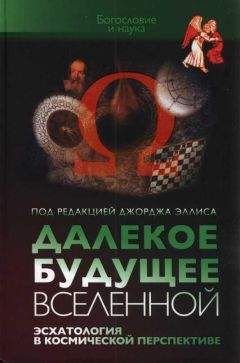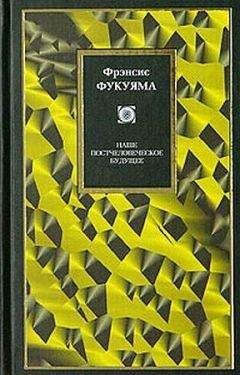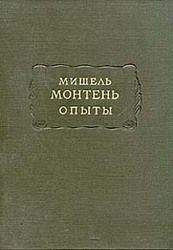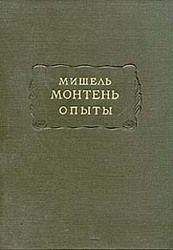Ален де Бенуа - Как можно быть язычником
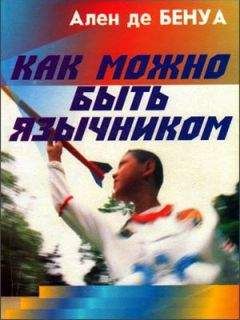
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Как можно быть язычником"
Описание и краткое содержание "Как можно быть язычником" читать бесплатно онлайн.
Это первое крупное произведение знаменитого французского философа, выпущенное в России на русском языке. В этой книге автор убедительно доказывает, что язычество — это не только далекое прошлое человечества, но и, в новой форме, наше неотвратимое будущее. Для широкого круга читателей.
Изображаться не должен не только Яхве, но и любые предметы этого мира начиная, естественно, с человека, потому что он создан «по образу» Божию. Это предписание иконоборчества, объявленное впервые в Книге Исхода: «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, что на земле внизу, и что в воде ниже земли» (20, 4), а потом во Второзаконии: «Дабы вы не развратились и не сделали себе изваяний, изображений какого-либо кумира, представляющих мужчину или женщину, изображения какого-либо скота, который на земле, изображения какой-либо птицы крылатой, которая летает под небесами, изображения какого-либо гада, ползающего по земле, изображения какой-либо рыбы, которая в водах ниже земли» (4, 16–18).
Трудно сказать, к какому именно времени восходят эти запреты. Представляется, что первоначально они имели в виду только изображения Божества, а впоследствии распространились на все образные представления. В течение веков они принимались и истолковывались более или менее строгим образом. Талмудическое обсуждение Данного вопроса (Шулхан Арух, Рош Гашана, 24 а-b; Йоре Деа 141, 7) касается в особенности слова «изображение». В целом, сегодня считается, что только полное изображение, то есть, например, изображение всего человеческого тела в трёх измерениях, подпадает под запрет. Статуи в полный рост запрещены; бюсты, портреты, фотографии — нет (см. Jewish Chronicle, September 2, 1977). Некоторые авторы, в особенности мистики, проявляли больший радикализм. Как бы там ни было, нетрудно увидеть в библейском иконоборчестве очевидную антиэстетическую предвзятость. В Бытии сестра кузнеца Тувалкаина Ноема носит имя, которое означает «красота». В традиционном иудаизме искусство в значительной степени ограничится литургической областью; внимание будет обращено не на Бога, но на его вмешательство в историю: «Великие люди религии Ветхого Завета, — пишет Торлейф Борман, — изображаются не по причине своего благочестия или своего героизма, а по причине того, что через них действовал Бог или, действуя, говорил с ними, или же, как Ездра, потому что он читал слова Бога» (op. cit.).
С этой точки зрения христианское искусство, которому мы обязаны столькими великолепными произведениями, появилось на свет как ересь. «Будучи перенесено к народам, любящим искусство, христианство стало настолько художественным, насколько нехудожественным оно было бы, оставшись в руках иудео-христиан» (Эрнест Ренан, «Марк Аврелий», 1881 г.). Но это было результатом долгой эволюции. У христиан первых веков правилом было иконоборчество; моисеев запрет на изображения строго соблюдался (и тем не менее согласно священному преданию первую икону нарисовал евангелист Лука). Кроме того, довольно распространенным было представление об уродстве Иисуса (см. у Тертуллиана, Оригена и Климента Александрийского). Евсевий Кесарийский в своём письме Констанции отвергает как совершенно нечестивую мысль об использовании портретов Христа. Первохристианство сосредоточило своё отвержение образов в презрении к языческим «идолам»: первые христиане не могут говорить о статуях богов без сарказма. На вопрос «Нужно ли создавать статуи и изображения Бога?» все они отвечают отрицательно (см.: Louis Rougier, Le culte des images et les premiers chrtiens, in Le conflit du christianisme primitif et de]a civilisation antique, Copernic, 1977, pp. 90-102). Только тогда, когда Церковь после константиновского компромисса начала паганизироваться, родилась, а потом стала развиваться христианская иконография, которой было суждено пережить столь исключительный расцвет с XII и XIII вв. В то же время следы иконоборчества обнаруживаются в византийском обряде и даже в протестантизме: восточные церкви более длительное время оставались ограниченными иератической и внеличностной образностью.
Иконоборчество также присутствует в исламе, в котором редкие арабо-мусульманские мыслители, занимавшиеся эстетикой, почти что всегда рассматривали искусство в его абстрактной форме (см.: Mohamed Aziza, L'Islam et l'image, Albin Michel, 1978), — как показал Анри Корбен, иконографическое вдохновение чаще всего переносится на «воображаемое». Отрицательное отношение к образам выражается особенно в хадитах, как правило в форме проклятий: «создатели образов» в последние дни будут наказаны Богом, который даст им невыполнимую задачу оживить их творения! Один только Бог (Asma Allah al-Husna) является al-Moussawwir'oM, то есть «творцом форм». Таким образом, речь вновь идёт о невозможности с ним соперничать в отведённой им себе области. Поль Шарне вполне справедливо описывает ислам как «абстрактную религию, отвергающую, вследствие отказа от идолопоклонства, антропоморфные, зооморфные и даже просто эстетические изображения и символы» (Sociologie religieuse de l'Islam, Sindbad, 1977–1978, p. 19).
Библейский отказ от образа может прочитываться на нескольких уровнях. Его первая функция связана с борьбой против «идолопоклонства». В собственном смысле слова «идол», (…), это то, что можно увидеть, то, что обретает существование посредством своего зрительного представления. Представление Бога в определённом образе, каким бы он ни был, неизбежно означает его представление именно в этом образе. В то же время Бог, создавший все образы, не может сводиться к одному особому образу. Ограничение его одним данным образом означает сведение общего к частному, взгляд на существование как на существо: немыслимая, богохульная мысль в библейской перспективе. Из фигуративного и абстрактного искусства только второе действительно соответствует моисееву предписанию, которое порождает определённую недоразвитость чувства формы (см.: Raphael Petal, The Jewish Mind, Charles Scribner's, New York, 1977, p. 358). Яаков Агам доходит до утверждения: «Фигуративное искусство не только не может быть еврейским, оно является по преимуществу антиеврейским, запрещённым Библией» (интервью в «L'Arche», сентябрь-октябрь 1978). В романе Хаима Потока «Меня зовут Ашер Лев» (Buchet-Chastel, 1973) рассказывается о ребёнке, нарушающем библейский запрет представлять образы.
С другой стороны, упразднение изображения человека сопровождается упразднением особенностей и своеобразия людей — вместе с упразднением человеческих норм постольку, поскольку они выражают эти особенности и это своеобразие, поскольку они сами являются их образами. Достаточно посмотреть с этой точки зрения на христианское искусство: художники совершенно естественно представляли Бога, наделяя его знакомыми им чертами: они наделяли его идеальным физическим образом, подразумевавшимся их собственным наследием и их собственной принадлежностью, настолько, немыслимо было для них, что Бог может иметь вид Совершенно Другого. Любое изображение отсылает к частному, отражает частное; любое изображение представляет собой зеркало, в котором и посредством которого восхваляется и возвышается определённый тип. Только отсутствие изображения может «отражать» невидимое и неизречённое. Только ничто может отсылать к ничто. Именно поэтому в библейской перспективе, которая истолковывает это ничто, эту абсолютную пустоту как абсолютную полноту, только отсутствие образа может выражать присутствие всех образов — так же, как только молчание человека может выражать слово Бога. Это идеал пустого храма. Идеал, который предвещает мессианские времена, когда различия и особенности будут упразднены, когда все люди станут «равны» друг другу, когда ничего нельзя будет ни с чем сравнить. «Мессианский мир, — уточняется в «Зохаре», — будет миром без образов, в котором более не будет возможно сравнение между образом и тем, что он представляет». Таким образом, нерепрезентативность приводит к плоской рациональности. Действительность больше не воспринимается, не ощущается и не представляется как таковая. Она теперь зависит не от чувствительности и эстетики, а от чистого интеллекта и чистой морали, — от интеллекта, который сам исходит из абстракции, в которой знаки означают не действительность, а друг друга. Действительность должна не видеться и строиться на основании того, как мы её воспринимаем, она должна пониматься.
Зачастую предпринимались попытки найти продолжения и точки совпадения с моисеевым запретом на изображение в современную эпоху, например, в абстрактном искусстве, рождение и развитие которого совпадают метафорически с рождением и развитием структурной лингвистики и конкретно пережитого интернационалистского идеала стирания границ. В своём сочинении об «Иконоборцах» (Seuil, 1978) Жан-Жозеф Гу задаёт вопрос: «Не является ли причиной склонности Маркса и Фрейда — этих неверных но несомненных сыновей иудаизма — к восприятию любого изображения как воображения, а любого воображения как незнания, их наследственная близость к иконоборческому завету? Нет сомнения, — добавляет он, — что именно в этом заключается подлинное основание иудейства Маркса и Фрейда, которое до сих пор принималось в расчёт только лишь анекдотическим образом». И вывод: «Отнюдь не случайностью, но следствием возделывания одной почвы является то, что сегодня мы встречаем — в абстрактной живописи, утопии, фетишизме, стандартах, различии полов — тему храма без образов». Таким образом, определённые идеологические явления, такие как абстрактная живопись, фрейдизм или марксизм, могут истолковываться как возрождения чрезвычайно древнего образа мыслей, постоянно движущегося от всеобщего к частному, от единства Закона к разнообразию знаков: «Все стороны жизни современного Запада, — пишет Жан-Жозеф Гу, — созвучны старому иконоборческому завету, лежавшему в основе древнего отклонения, с момента которого мыслители иудейской традиции активно вмешивались, закладывая основы, этой современной жизни, намечая её очертания, не противостоя ей, а скорее предвещая её» (op. cit., p. 145).
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Как можно быть язычником"
Книги похожие на "Как можно быть язычником" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Ален де Бенуа - Как можно быть язычником"
Отзывы читателей о книге "Как можно быть язычником", комментарии и мнения людей о произведении.