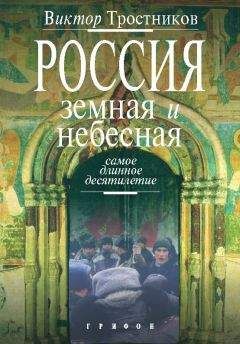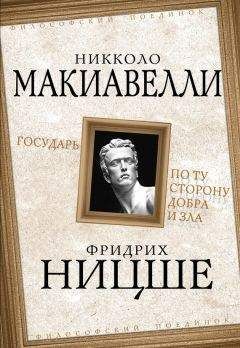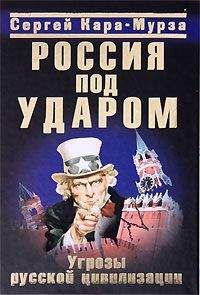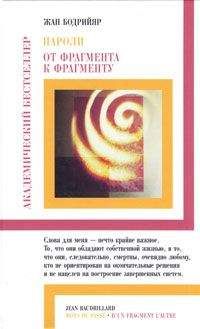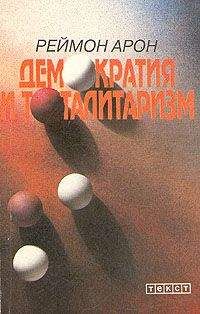Маршалл Мак-Люэн - Галактика Гутенберга
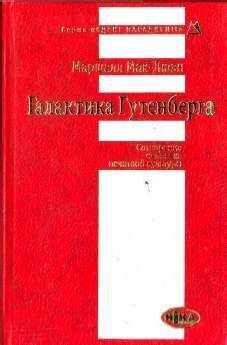
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Галактика Гутенберга"
Описание и краткое содержание "Галактика Гутенберга" читать бесплатно онлайн.
«Галактика Гутенберга» — один из самых значительных трудов канадского ученого Маршалла Мак-Люэна, литературоведа, социолога, культуролога, известного представителя техницизма в философии культуры. Некоторые его гипотезы стали аксиомами нашей цивилизации, а целый ряд его оригинальных положений и сегодня разрабатывает современная маклюэнистика.
В «Галактике Гутенберга» представлен мозаический подход к историческим проблемам. После естественности и гармоничности отношений, присущих трайбализму, наступила эпоха абсолютной власти визуализации. Главный грех западной цивилизации — создание алфавита и письменности на его основе. Возникла «галактика Гутенберга», где все грамотные люди — в той или иной мере расщепленные личности, шизофреники. Это привело к деколлективизации, детрайбализации, индивидуализму. А поощряя индивидуализм, книгопечатание в то же время порождает национализм, превращая язык как способ коммуникации в замкнутую систему. С наступлением электронной эры, символом которой является аудиовизуальная аппаратура, человеческое сознание присоединяется к замкнутой глобальной системе видеокоммуникаций. Это способствует развитию мозга, а на планете возникает прообраз новой цивилизации — электронного трайбализма, эры планетарного униформизма, или, по Мак-Люэну, «глобальной деревни».
На русский язык переведена впервые; рассчитана на всех, кто интересуется философией культуры.
«Прежний дух демократического беззакония» явно подразумевает децентрализованную, устную организацию общества, предшествовавшую появлению книгопечатания и развитию национализма. Централизм, получивший мощный толчок национальных энергий, потребовал значительного роста независимости. Печатная книга очень скоро принесла свои плоды. Подобно тому как папирус создал римские дороги, благодаря книгопечатанию эпоха ренессансных монархий проходила под знаком скорости и визуальной точности. Перешагнем через столетие и двинемся в Оксфорд, чтобы увидеть результаты мощного централизующего воздействия печатной книги. У Кристофера Вордсворта в его «Scholae academicae: об обучении в английских университетах восемнадцатого века» (р.16) мы находим рассказ о странном переплетении и взаимодействии письменных и устных форм:
Прежде чем углубиться в подробности организации университетских занятий и экзаменов, нам следует избавиться от современного представления о том, что учеба существует для экзаменов, а не наоборот — экзамены для учебы. Измерять экзаменами и их числом эффективность образования, да еще и прилагать эту мерку к прошлым поколениям значило бы впасть в анахронизм.
Напрасно стали бы мы искать какие-либо публичные экзамены или обсуждения результатов научных исследований. Стимулом для студентов служило скорее общение с тьюторами и друзьями, чем диспуты в школах. Экзаменов как таковых в нашем современном понимании не было. По мере того как книги становились дешевле, самые прилежные студенты обнаруживали, что они могут приобретать знания сами, тогда как предшествующие поколения зависели от устного обучения. Тогда-то и возникла необходимость в экзаменах. И поскольку последние проводились с соблюдением определенных научных норм, а их результаты становились более публичными или, так сказать, приобретали некоторую рыночную ценность, снова появилась потребность в устном обучении.
Вордсворт описывает тенденцию к централизации в проведении экзаменов, вызванную децентрализацией обучения. Ведь при наличии множества печатных книг студент мог оказаться начитанным в областях, неведомых его экзаменаторам. Таким образом, утверждается тот принцип, что компактная общедоступная книга создает условия для централизованного унифицированного экзамена (вместо прежней устной проверки знаний). Печатное слово, как мы увидим дальше, оказывает довольно странное организующее воздействие на национальный язык. И деловой человек восемнадцатого века, независимо от того, основывалась ли его политическая арифметика на визуализации количества или он строил свои спекуляции, опираясь на механизм «гедонистического расчета», — и в том, и в другом случае обнаруживал свою зависимость от унифицирующей силы печатной технологии. Тем не менее в действиях расчетливого и предприимчивого человека, постоянно применявшего этот принцип, будь то в производстве или распределении, в той настойчивости, с которой он утверждал свою логику централизма, есть привкус анархической горечи. В книге «Литература и образ человека» (р.41, 42) Ловенталь отмечает:
Вскоре после падения феодализма обнаружилось, что литературные авторы отдают предпочтение изображению людей, которые смотрят на общество не с точки зрения участника, а с позиции аутсайдера. И чем дальше эти люди уходили от дел общества, тем вероятнее становилось их социальное поражение (что почти одно и то же, хотя и не совсем). Как следствие, у таких людей вырабатывались в высшей степени индивидуальные, избежавшие давления общества черты характера. Ведь условия — о чем бы ни шла речь, — которые отдаляли их от забот общества, одновременно вели их к сосредоточенности на своей внутренней природе. И чем примитивнее и грубее было окружение, в котором они оказывались, тем сильнее это побуждало их развивать в себе человечность.
Целую галерею таких маргинальных фигур и ситуаций мы находим у Сервантеса. Это прежде всего безумцы — Дон Кихот и Стеклянный человек, — которые глубоко вовлечены в социальный мир, но находятся в постоянном конфликте с ним как на словах, так и на деле. Далее, в «Ринконете и Кортадильо» мы встречаемся с маленькими калеками и нищими, ведущими паразитический образ жизни на обочине общества. Еще один шаг к периферии — и мы встречаем цыган, изображенных в «Маленьком цыгане»: они находятся совершенно вне основного потока событий. Наконец, ситуация, когда Дон Кихот, этот маргинальный рыцарь, беседует с простыми козопасами о Золотом веке, когда слияние человека с природой станет абсолютным.
К этому каталогу маргинальных типов и ситуаций добавим фигуру женщины, которая на протяжении почти всего периода современной литературы от Сервантеса до Ибсена рассматривалась как индивид, гораздо более приблизившийся к своей истинной природе, чем мужчины, поскольку последние накрепко привязаны к своей работе и конкурентной борьбе в противоположность свободной от профессиональных забот женщине. Не случайно Сервантес избирает Дульсинею в качестве символа творческой силы человека.
Логика книгопечатания создала аутсайдера, отчужденного индивида как тип целостного, т. е. интуитивного и иррационального, человека
Если Ловенталь прав, то на протяжении последних столетий мы потратили массу энергии, яростно пытаясь разрушить устную культуру с помощью печатной технологии. И теперь унифицированные индивиды коммерциализованного общества могут вернуться в устную маргинальную сферу как туристы или потребители (в географическом или художественном смысле). Восемнадцатый век начал, так сказать, с посещения Метрополитен-опера. На пути гомогенизации и визуализации себя дойдя до точки самоотчуждения, он затем пустился на поиски естественного человека — то на Гибридах, то в Индии или Америке, то в сфере трансцендентального воображения, а то и (последнее особенно часто) в детстве. В наши дни с большим резонансом эту одиссею повторили Д.Г.Лоренс и др. В этом даже начинает просматриваться автоматизм. Искусство становится просто компенсацией за жизнь, утратившую глубину.
Ловенталь замечательно описывает нового отчужденного человека, который отказался присоединиться к потребительской гонке и остался на периферии общества, где сохранился феодальный и устный порядок. В глазах визуально и потребительски ориентированной массы нового общества такие маргинальные фигуры обладают привлекательностью.
«Образ женщины» удачно встраивается в эту живописную группу аутсайдеров. Благодаря своей склонности к осязательному восприятию, доверию к интуиции, цельности она получает маргинальный статус романтической фигуры. Байрон полагал, что гомогенизации, внутреннего раскола, специализации не могут избежать мужчины, но не женщины:
В судьбе мужчин любовь не основное
Для женщины любовь и жизнь одно.
«Женщина, — писал Мередит в 1859 г., — последней уступит цивилизующему натиску мужчины». До 1929 г. гомогенизирующее воздействие на женщину осуществлялось в основном с помощью кино и фоторекламы. Одного книгопечатания было недостаточно для того, чтобы заставить ее примириться с унификацией, воспроизводимостью и специализацией.
Какая судьба — оставаться цельной и целомудренной в фрагментированной визуальной пустыне! Но двадцатый век довел до конца гомогенизацию женщины, после того как совершенство фотоискусства повело ее тем же путем визуальной унификации и воспроизводимости, каким книгопечатание повело мужчин. Этой теме я посвятил целый том «Механическая невеста».
Иллюстрированная реклама и кино в конце концов сделали с женщинами то же, что печатная технология сделала с мужчинами на несколько столетий раньше. Когда затрагиваются эти темы, часто спрашивают: «Это хорошо или плохо?». Смысл подобных вопросов, по-видимому, состоит в следующем: как нам следует к этому относиться? Но они не подразумевают, что с этим можно что-то сделать. Разумеется, сначала следует понять формальную динамику и конфигурацию таких событий. Это уже значит, что-то делать. Контроль и действия, опирающиеся на ценности, должны вытекать из понимания. Мы слишком долго позволяли ценностным суждениям создавать туман вокруг технологических изменений, что предельно усложнило понимание.
И все-таки: что же на протяжении ряда столетий мешало пониманию последствий визуальной квантификации и фрагментации? Сначала — слепая уверенность во всесилии сегментарного анализа всех функций и действий индивида и общества, а затем — несмолкающие стенания по поводу того, что такое расщепление разрушает внутреннюю жизнь! Расколотый человек выводится на сцену с характеристикой «Абсолютная норма». Он по-прежнему сохраняет за собой этот статус, хотя все больше начинает паниковать по поводу электрических средств коммуникации. Тогда как маргинальный человек — это «центр-без-периферии», цельный независимый индивид. Иными словами, он феодален, «аристократичен», он принадлежит устной культуре. Новый тип урбанистического, или буржуазного, человека, напротив, существует в системе координат «центр—периферия». Это значит, что он визуально ориентирован, озабочен своей внешностью, конформизмом и респектабельностью. Когда же он пытается быть индивидуальным, он становится усредненным. Он не может не принадлежать к чему-то. И тогда он начинает создавать крупные централизованные группировки — в первую очередь, по национальному признаку.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Галактика Гутенберга"
Книги похожие на "Галактика Гутенберга" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Маршалл Мак-Люэн - Галактика Гутенберга"
Отзывы читателей о книге "Галактика Гутенберга", комментарии и мнения людей о произведении.