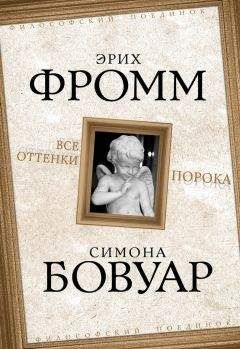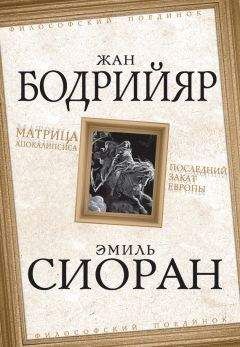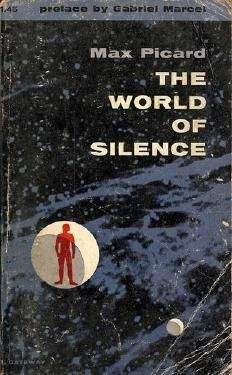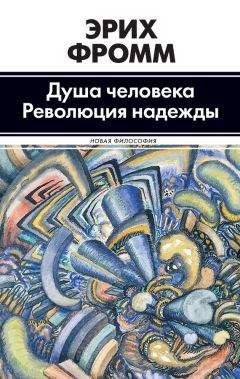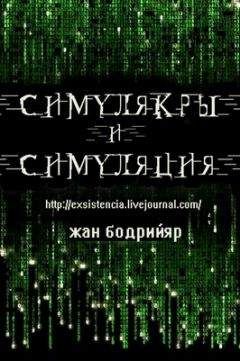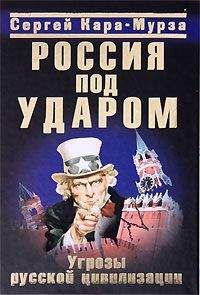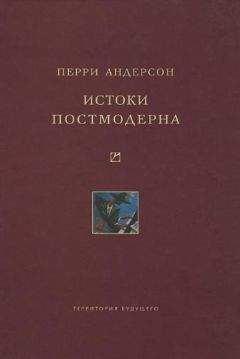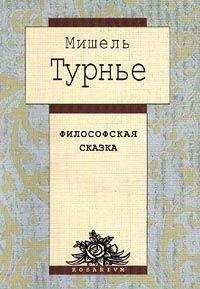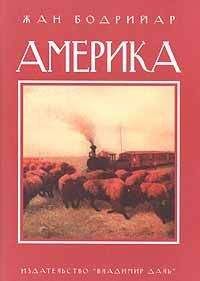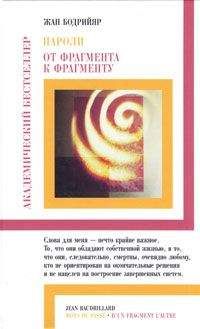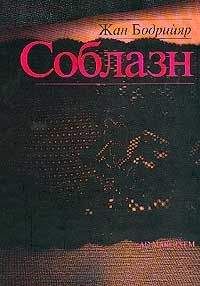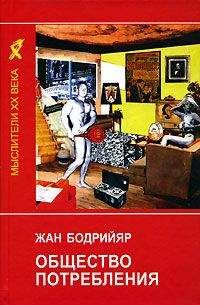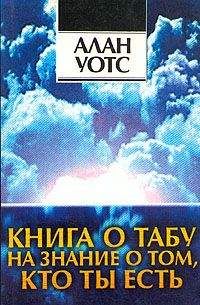Жан Бодрийяр - Символический обмен и смерть
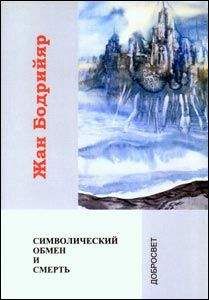
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Символический обмен и смерть"
Описание и краткое содержание "Символический обмен и смерть" читать бесплатно онлайн.
Начав свою карьеру как социолог, Жан Бодрийяр (род. в 1929 г.) сегодня является одним из известнейших мировых мыслителей, исследующих феномен так называемого «постмодерна» — новейшего состояния западной цивилизации, которое характеризуется разрастанием искусственных, неподлинных образований и механизмов, симулякров настоящего социального бытия.
В ряду других книг Бодрияра — "Система вещей" (1968), "О соблазне" (1979, "Фатальные стратегии" (1983), "Прозрачность зла" (1990) — книга "Символический обмен и смерть" (1976) выделяется как попытка не только дать критическое описание неокапиталистического общества потребления, но и предложить ему культурную альтернативу, которую автор связывает с восходящими к архаическим традициям механизмами "символического обмена": обменом дарами, жертвоприношением, ритуалом, игрой, поэзией.
При нынешней системе воспроизводится сам капитал в самом строгом своем определении — как форма общественных отношений, — а не в вульгарном понимании, как деньги, прибыль и хозяйственная система. Воспроизводство всегда понималось как «расширенное» воспроизводство способа производства, обусловленное этим последним. На самом же деле следовало мыслить способ производства как одну из модальностей (не единственную) режима воспроизводства. Производительные силы и производственные отношения — иными словами, сфера материального производства — представляют собой, пожалуй, лишь одну из возможных, то есть исторически относительных конъюнктур, возникающих в процессе воспроизводства. Воспроизводство — форма гораздо более емкая, чем экономическая эксплуатация. А стало быть, игра производительных сил не является ее необходимым условием.
Разве исторически статус «пролетариата» (наемных промышленных рабочих) не определялся прежде всего заточением, концентрацией и социальной исключенностью?
Заточение мануфактурного рабочего — это фантастическое распространение того заточения, которое описано у Фуко для XVII века. Разве не возник «промышленный» труд (то есть труд неремесленный, коллективный, поднадзорный и без владения средствами производства) в первых больших Генеральных госпиталях? На своем пути к рационализации общество первым делом интернирует праздношатающихся, бродяг, девиантных индивидов, дает им занятие, прикрепляет к месту, внушает им свой рациональный принцип труда. Однако здесь происходит взаимозаражение, так что разрез, с помощью которого общество учредило свой принцип рациональности, обращается и на все трудовое общество в целом: заточение становится микромоделью, которая затем, в качестве промышленной системы, распространяется на все общество в целом, и под знаком капитала и продуктивистской целесообразности оно превращается в концентрационный лагерь, место заключения, затворничества.
Вместо того чтобы распространять понятия пролетариата и эксплуатации на расовое, половое и т. п. угнетение, следует задаться вопросом, не обстоит ли дело наоборот. Кто такой изначально рабочий? Не совпадает ли его глубинный статус со статусом безумца, мертвеца, природы, животных, детей, негров, женщин — статусом не эксплуатации, а экскоммуникации, отлучения, не ограбленности и эксплуатируемости, а дискриминируемости и мечености?
Я предполагаю, что настоящая классовая борьба всегда происходила на основе этой дискриминации — как борьба недочеловеков против своего скотского положения, против мерзости кастового деления, обрекающего их на недочеловеческий труд. Именно это скрывается за каждой забастовкой, за каждым бунтом; даже и сегодня это скрывается в самых «экономических» требованиях забастовщиков — вся их разрушительная сила идет отсюда. При этом сегодняшний пролетарий является «нормальным» человеком, трудящийся возведен в достоинство полноправного «человеческого существа», и, кстати, в этом качестве он перенимает все виды дискриминации, свойственные господствующим классам, — он расист, сексист, мыслит репрессивно. В своем отношении к сегодняшним девиантным элементам, ко всем тем, кого дискриминируют, он на стороне буржуазии — на стороне человеческого, на стороне нормы. Оттого и получается, что основополагающий закон этого общества — не закон эксплуатации, а код нормальности.
Май 1968 года: иллюзия производстваПервой ударной волной этого перехода от производства к чистому воспроизводству оказался май 1968 года. Первым оказался затронут университет, и прежде всего гуманитарные факультеты, потому что там стало особенно очевидно (даже и без ясного «политического» сознания), что там ничего больше не производят, а только лишь воспроизводят (преподавателей, знания и культуру, каковые сами становятся факторами воспроизводства системы в целом). Именно это положение, переживаемое как полная ненужность и безответственность («Зачем нужны социологи?»), как социальная неполноценность, и подхлестнуло студенческие выступления 1968 года — а вовсе не отсутствие перспектив: в процессе воспроизводства перспектив всегда хватает, чего нет, так это мест, пространств, где бы действительно что-то производилось.
Эта ударная волна продолжает разбегаться. Она и будет распространяться до крайних пределов системы, по мере того как целые сектора общества низводятся из разряда производительных сил до простого состояния воспроизводительных сил. Хотя первоначально этот процесс затронул так называемые «надстроечные» сектора, такие как культура, знание, юстиция, семья, но очевидно, что сегодня он постепенно охватывает и весь так называемый «базис»: забастовки нового поколения, происходящие после 1968 года, — неважно, что они частные, стихийные, эпизодические, — свидетельствуют уже не о «классовой борьбе» пролетариата, занятого в производстве, но о бунте людей, которые прямо у себя на заводах приписаны к воспроизводству.
Однако и в этом секторе первыми страдают маргиналыю-аномические категории — молодые OS, завезенные на завод прямо из деревни, иммигранты, не члены профсоюза и т. д. Действительно. В силу указанных выше причин «традиционный», организованный в профсоюзы пролетариат имеет все шансы среагировать последним, так как он может дольше всех сохранять иллюзию «производителъного>> труда. Это сознание того, что по сравнению со всеми прочими ты настоящий «производитель», что все-таки, пусть и ценой эксплуатации, ты стоишь у истоков общественного богатства, — такое «пролетарское» самосознание, усиливаемое и санкционируемое классовой организацией, несомненно образует сильнейшую идеологическую защиту от деструктурации, осуществляемой нынешней системой, которая, вместо того чтобы, по старой доброй марксистской теории, пролетаризировать целые слои населения, то есть ширить эксплуатацию «производительного» труда, подводит всех под один и тот же статус воспроизводительного труженика.
Работники ручного «производственного» труда более всех живут в иллюзии производства, подобно тому как свой досуг они переживают в иллюзии свободы.
До тех пор пока труд переживается как источник богатства или удовлетворения, как потребительная стоимость, пусть даже это труд наихудший, отчужденный и эксплуатируемый, — он все-таки остается сносным. До тех пор пока еще можно различить некоторое «производство», отвечающее (хотя бы в воображении) некоторым индивидуальным или общественным потребностям (потому-то понятие потребности обладает столь фундаментальной важностью и столь мощной мистифицирующей силой), — до тех пор даже самые худшие индивидуальные или исторические обстоятельства остаются сносными, потому что иллюзия производства — это всегда иллюзия его совпадения с его идеальной потребительной стоимостью. Так что те, кто верит сегодня в потребительную стоимость своей рабочей силы, — пролетарии — потенциально более всех мистифицированы, менее всех способны к бунту, которым охвачены люди в глубине своей тотальной ненужности, в порочном кругу манипулирования, где они оказываются лишь вехами в безумном процессе воспроизводства.
В тот день, когда этот процесс распространится на все общество в целом, май 1968 года примет форму всеобщего взрыва, и проблемы смычки студентов/трудящихся больше не встанет: в ней всего лишь выражалась пропасть, разделяющая при нынешней системе тех, кто еще верит в свою рабочую силу, и тех, кто в нее уже не верит.
ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ КАК СИМУЛЯТИВНАЯ МОДЕЛЬ
Политическая экономия для нас — это теперь реальное, то же самое, что референт для знака: горизонт уже мертвого порядка явлений, симуляция которого позволяет, однако, поддержать «диалектическое» равновесие системы. Реальное — следовательно, воображаемое. Здесь опять-таки две некогда различные категории слились воедино и продолжают дрейфовать вместе. Код (структурный закон ценности) систематически играет на реактивации политической экономии (узкорыночного закона стоимости) как реального/воображаемого нашей цивилизации, и манифестация этой ограниченной формы ценности равносильна оккультации ее радикальной формы.
Прибыль, прибавочная стоимость, механика капитала, классовая борьба — весь дискурс критики политической экономии развертывается напоказ как референтный дискурс. Таинство ценности представляют на сцене (разумеется, таинство всего лишь изменило смысл: теперь таинственной сделалась структурная ценность): все согласны с тем, что экономика является «определяющей инстанцией», и она становится «внесценической», «непристойной» [obscène].[84] Это своего рода провокация. Капитал ищет себе алиби уже не в природе, Боге или морали, а прямо в политической экономии, в ее критике, и живет внутренним саморазоблачением — в качестве диалектического стимула и обратной связи. Вот почему в «дизайне» капитала играет такую важную роль марксистский анализ.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Символический обмен и смерть"
Книги похожие на "Символический обмен и смерть" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Жан Бодрийяр - Символический обмен и смерть"
Отзывы читателей о книге "Символический обмен и смерть", комментарии и мнения людей о произведении.