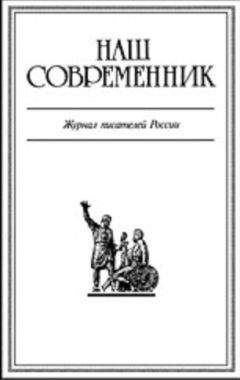Журнал Знамя - Знамя Журнал 8 (2008)
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Знамя Журнал 8 (2008)"
Описание и краткое содержание "Знамя Журнал 8 (2008)" читать бесплатно онлайн.
Знамя» - толстый литературный журнал, издающийся с 1931 года, в котором печатались корифеи советской литературы, а после 1985 г. произведения, во многом определившие лицо горбачёвской перестройки и гласности.Сегодня журнал стремится играть роль выставки достижений литературного хозяйства, публикуя не только признанных мастеров, но прозу и поэзию молодых писателей, которых критика называет будущим русской литературы.http://magazines.russ.ru/znamia/
Это принцип. Гандлевский не кичится эрудицией, не похваляется зарубежными вояжами (один восьмистрочный стишок на сей счет: “Выуживать мелочь со дна кошелька…”, и то не дальше Чехии да Польши), не сыплет именами. Иные именосцы упоминаются по необходимости, поскольку и впрямь “Никто - ни Кьеркегор, ни Бубер - / Не объяснит мне, для чего, / С какой - не растолкуют - стати, / И то сказать, с какой-такой / Я жил и в собственной кровати / Садился вдруг во тьме ночной”.
Очень знакомо.
Но этого не объяснит и школьная учителка, п. марьиванна. Она - про “смысл жизни”. Поэт - про то же. Он не знает этого смысла. “Как засран лес, как жизнь не удалась, / Как жалко леса, а ее - не очень”* .
Вообще говоря, “Некоторые стихотворения” - книжка про то, что жизнь не удалась (и, конечно же, про “вселенную всенепременно”). Продолжительно-прерывистый вздох по “дуре-молодости”. Вот оно: “Казалось бы, отдал все, лишь бы снова ждать у метро / Женщину 23-х лет в длинном черном пальто”.
Это тысячелетне-патриархальное сознание набито “признаками жизни, разными вещами”, “дачной рухлядью”, которая “…воскрешает, вроде искусства, / сущую малость - / всякие мысли, всякие чувства, / прочую жалость. // Вплоть до частушки о волейболе / и валидоле…/ Платье на стуле - польское, что ли, / матери, что ли?”. Элегия сведена к частушке. Которая щемит сердце. Именно так: польское, что ли, матери, что ли.
Но это началось еще в молодости. Раннее стариковство не было выдумкой, оно было предощущением, похожим на предвиденье. Он сам расписал свою судьбу, набросал ее чертеж и воплотил в живые формы. Нынче он подтверждает то, что предугадал. Почти теми же словами, изредка прибегая к новым вроде “пубертата”. Ушли свежесть взгляда, широта жеста, глубина дыхания - что образовалось на месте всего этого? Предельность высказывания. Та самая предельность, когда каждое стихотворение пишется как последнее.
Так ведь функция искусства - воскрешать. Истина не из избыточно затейливых, но со шкалы ценностей ее не согнать. Сама сюжетность прежнего и нынешнего Гандлевского, внутренняя балладность, постоянное движение, действие, клочки биографии, строки анкеты, нужные прозаизмы, осколки травматичного пьянства, каталог эпизодов и сцен, происходящих в его стихах, - все это и есть адекватно живая жизнь, “с сахаром и без”. В основном без.
“В черном теле лирику держал, / Споров о высоком приобщился…” Какой-то смысл во всем этом все-таки есть. Честно говоря, я мог бы много к этому подрифмовать - что-то из Межирова, Чухонцева и некоторых немногих других. Не надо. Автор “Некоторых стихотворений” самого себя стоит.
Сейчас, насвежо перечитав Гандлевского, я должен поправить себя. В недавней знаменской публикации** я с размаху записал Гандлевского в старшие братья Дениса Новикова и Бориса Рыжего. Это промах. Гандлевский больше напоминает их отца: достаточно взглянуть на датировку ранних его стихов. Не говоря уж о тематическом круге, поэтике и манере разговора (“небритый прохожий сам с собой на ходу говорит”).
Есть и еще одно уточнение, касаемое на сей раз сказанного только что и чуть выше. “Метафизические враки” у Гандлевского - как предмет отношения к ним - таковыми и остаются, однако в недавнем (2005) верлибре об отце сказано: “Среди прочего, отец научил отыскивать Кассиопею - / небесную “дубль-ве”…”; далее вкратце говорится (верлибр позволяет пересказывать) о подробностях земного бытия, его толчее и бестолочи, в том числе о непристойных россказнях “о загробных проделках усопших” и тому подобное; концовка же такова: “Вот когда новогодней ночью из дюжины свечей на дачном снегу держались до последнего ровно пять, образовав вышеуказанный астрономический зигзаг…” Мысль оборвана. Но ясна.
Кассиопея победила. Впрочем, на земле. На дачном снегу детства.
Илья Фаликов
* Ср.: “Как поздно, как жизнь пролетела, / как быстро настала Москва!” (Е. Рейн).
** “Знамя”, 2008, N 2: “Граду, миру, чему-то еще”.
Галина Ермошина. Оклик небывшего времени
Лестницы Мебиуса
Галина Ермошина.
Оклик небывшего времени. - М.: Наука (Русский Гулливер), 2007.
Эту рецензию можно было бы назвать так: “Способ фотографировать сновидения”. Или так: “Мир непроявленных форм”. Или: “Поперек зрения”, “Изумленное пространство бездействия”, “Продолжающееся отражение”… Проза Галины Ермошиной на редкость обильна такими просящимися в заглавие фразами, отсылающими как бы к чему-то более объемному и глубокому (опыту, взгляду, смыслу). Собственно, каждая фраза этой книги может быть ее названием, ее началом - а предшествующие фразы перенесены из начала в конец (тоже - условный).
Шарообразная проза. Шелестящая листва Мебиуса.
“Горло квадратных фонарей сжимает темноту, разворачивающуюся из твоих ладоней. Карантинное измерение температуры, падающий ртутный столбик, карманные сверчки внутри спичечного коробка. Где оказалась твоя ошибка, когда, открывая двери, выкатывается плотный шар воздуха, - две рыбы задыхаются на песке - черные острые камни перекатывают волны во рту Тихого океана”.
Сразу оговорюсь, что не принадлежу к числу любителей такой прозы - как принципа, как разросшегося дисметрического стиха, уже не подчиненного аскезе рифмы, стопы или хотя бы дискретности смысла, требующей членения на строки, - но еще не подчиненного аскезе прозы (сюжетности, драматургии…). Обретаемая свобода может иметь смысл лишь при сочетании предельной, хищной обостренности восприятия и стыдливой умеренности в эпитетах и сравнениях - что можно найти, например, в лучших кусках прозы Рильке или Мандельштама. Чаще, однако, “освободившиеся” авторы перегружают текст обилием метафор, особенно назойливых среди сюжетных и смысловых пустот.
Тем не менее аморфность письма, при известном мастерстве, может иметь и свои плюсы, давая большую возможность удержаться на мелкой детали, неожиданной ассоциации, микрометаморфозе. Этим интересны тексты Андрея Урицкого; отдельные куски такой стихопрозы у Сергея Спирихина, Александра Иличевского, Лены Элтанг или у Вадима Месяца - кстати, руководителя проекта “Русский Гулливер”, в рамках которого и вышла книга Ермошиной.
“Оклик небывшего времени” - из этого же ряда; выбор рискованного - с точки зрения удержания читательского внимания - жанра растекающегося монолога, монолога, предельно отслоенного от фигуры автора, о котором, кроме двух-трех его перемещений по географической карте, мы не узнаем ничего. Ермошина заговаривает об отправленном письме: будьте уверены, что мы ничего не узнаем ни о том, кто его писал, кому писалось, ни о содержании письма. Вместо этого мы узнаем, что:
“Письмо - такое событие, что разговор происходит между. Две зимы, расходясь, расходуются от центра, края соприкасаются, внутри - воздух. Это как способ подумать о другом, даже не оклик, а взгляд. Рассказ молчания о пути к нему, где можно обойтись без условий”.
Подобная рефлексия устраняет не только автора, но и свой предмет - письмо прямо на глазах превращается в воздух и молчание. Вообще все полагает неравным, нетождественным себе. “Где мое воскресенье - там твоя суббота”. “Ожидание не равно ожиданию”. “Здесь нет ничего, что можно было бы назвать точным или имеющим границы…” “Неспособность на “да” и “нет”. Только - может быть - между - на грани - внутрь - через - рядом - отдельно”.
Неопределенность, текучесть удерживается не авторским Я, но устойчивым словарем образов. Ладонь, воздух, город, вода, губы, мост, речь, фонарь, яблоко, тень присутствуют едва ли не на каждой странице. Хотя порой кажется, что изрядная затертость этих образов, взятых из расхожего лирического словаря, не компенсируется их причудливой оркестровкой.
“Первое спокойное отражение. Возвращение пустого взгляда, прочного каркаса воздуха. Там удивление сохраненной улыбки, падающие зигзаги противоречий, ключицы воды, ключи песка”; “Рост осенних газовых фонарей, примерная Голландия накрененной фантазии” - возможно, моя собственная фантазия недостаточно для этого накренена, но, на мой взгляд, гораздо лучше менее утяжеленные, более прозрачные фразы: “Сниться рыжей кошке, вытаскивать из лап занозы, выпивать молоко, поставленное для домового”; “Рыбы замерзают во льду - в елочных шарах их застывающий выдох”; “Укради из буфета пчел и ос”; “А сон, эта запертая кладовка, шипит и выплескивается на плиту нелепого фрейдовского безумия” - в последнем случае можно даже допустить, что кладовка может выплеснуться на плиту; по крайней мере, обеспеченность смыслом и образным “мясом” в этой фразе гораздо выше, чем во всех “ключах песка”.
Впрочем, обаяние прозы Ермошиной не столько на уровне отдельной фразы - хотя именно к такому “изюмному” чтению провоцируют эти бессюжетные, бесперсонажные тексты, - сколько в чередовании длинных, метафорически избыточных, и кратких, порой ничего не значащих и банальных фраз. “Здравствуй, летняя ночь”. Что это - начало девичьего дневника, перепев школьного: “Здравствуй, лето”? Но в единой партитуре с последующим текстом это непритязательное начало становится ритмически оправданным, начиная звучать и наполняться светом: “Здравствуй, летняя ночь. Твои теплые змеи упруго скользят в воду, твои большие глаза темнеют от приближения ладони ко лбу. И ночная ягода светится, перекатываясь по большому лесу. Твои дома держатся за руки и не пускают тебя в квартиры, где стены ласково прижимаются к человеку и сжимают горло”.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Знамя Журнал 8 (2008)"
Книги похожие на "Знамя Журнал 8 (2008)" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Журнал Знамя - Знамя Журнал 8 (2008)"
Отзывы читателей о книге "Знамя Журнал 8 (2008)", комментарии и мнения людей о произведении.