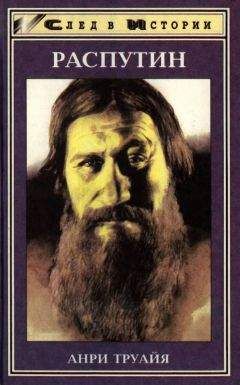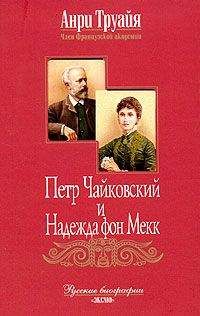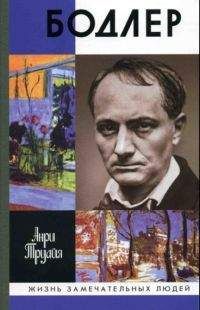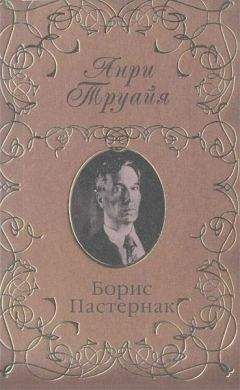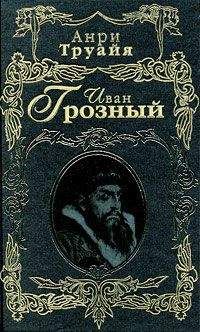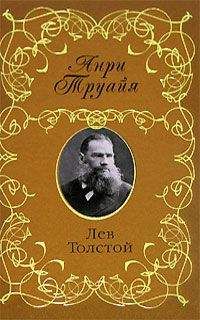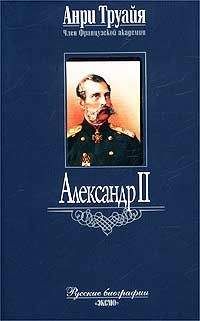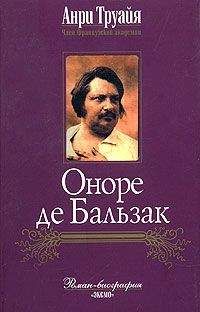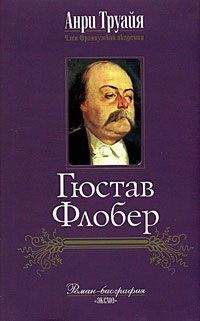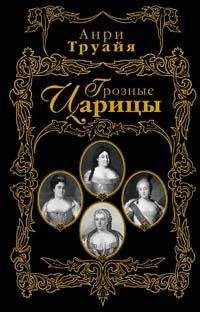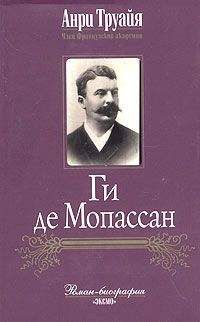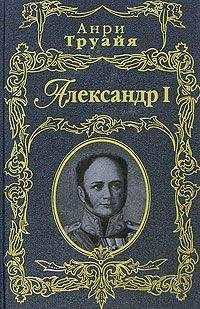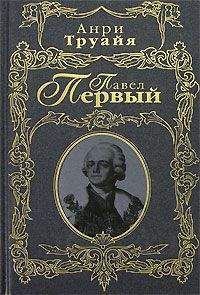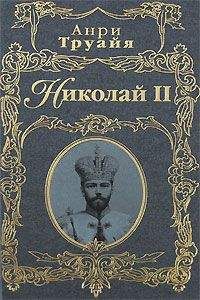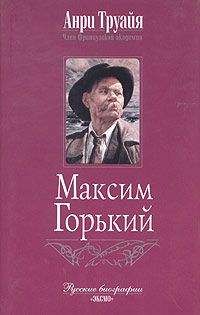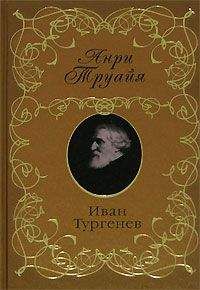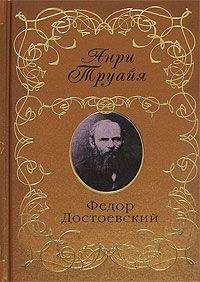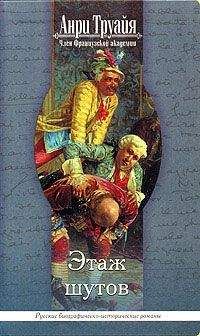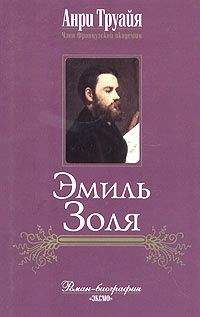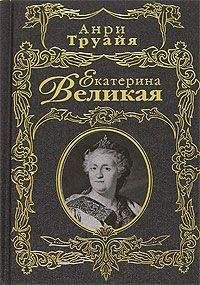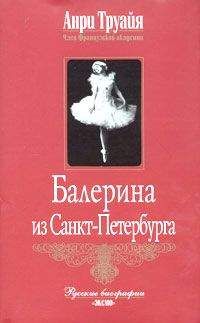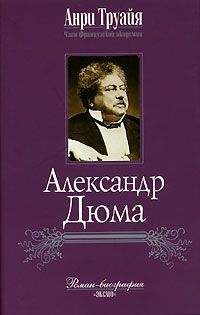Анри Труайя - Марина Цветаева
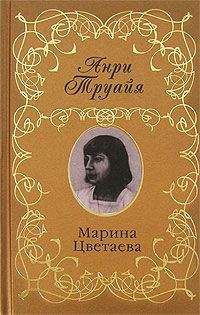
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Марина Цветаева"
Описание и краткое содержание "Марина Цветаева" читать бесплатно онлайн.
Вокруг жизни Марины Цветаевой существует великое множество слухов, домыслов и даже легенд. Известный французский писатель и биограф Анри Труайя в своей работе старался опираться только на те факты, которые представлялись ему наиболее достоверными и важными для понимания жизненной трагедии и творческого пути великой русской поэтессы.
Наконец, – у Мура здесь никаких перспектив. Я же вижу этих двадцатилетних – они в тупике.
В Москве у меня сестра Ася, которая меня любит – м.б. больше, чем своего единственного сына. В Москве у меня – всё-таки – круг настоящих читателей, не обломков. (Меня здешние писатели не любят, не считают своей.)
Наконец – природа: просторы.
Это – зa.
Против: Москва превращена в Нью-Йорк, в идеологический Нью-Йорк, – ни пустырей, ни бугров – асфальтовые озера с рупорами громкоговорителей и колоссальными рекламами: нет, не с главного начала: Мур, которого у меня эта Москва сразу, всего, с головой отберет. И второе, главное: я – с моей Furchtlosigkeit,[231] я, не умеющая не-ответить, не могущая подписать приветственный адрес великому Сталину, ибо не я его назвала великим и – если даже велик – это не мое величие – м. б. важней всего – ненавижу каждую торжествующую, казенную церковь.
И – расстанусь с Вами: с надеждой на встречу! – с А.И. Андреевой, с семьей Лебедевых (больше у меня нет никого).
– Вот. – <…>
…Может быть – так и надо. Может быть – последняя (– ли?) Kraftsprobe?[232] Но зачем я тогда – с 18 лет растила детей? Закон природы? Неутешительно. <…>
Положение двусмысленное. Нынче, например, читаю на большом вечере эмигрантских поэтов (все парижские, вплоть до развалины Мережковского, когда-то тоже писавшего стихи). А завтра (не знаю – когда) по просьбе своих – на каком-то возвращенческом вечере (NB! Те же стихи – и в обоих случаях – безвозмездно) – и может выглядеть некрасивым.
Это всё меня изводит и не дает серьезно заняться ничем».[233]
Несколько дней спустя она дополняет в новом письме Тесковой этот анализ ситуации, которую считает совершенно безнадежной: «Дорогая Анна Антоновна! Живу под тучей – отъезда. Еще ничего реального, но мне – для чувств – реального не надо.
Чувствую, что моя жизнь переламывается пополам и что это ее – последний конец.
Завтра или через год – я все равно уже не здесь („на время не стоит труда…“) и все равно уже не живу. Страх за рукописи – что-то с ними будет? Половину – нельзя везти! А какая забота (любовь) – безумная жалость к последним друзьям: книгам – тоже половину нельзя везти! – и какие оставить?? – и какие взять?? – уже сейчас тоска по здешней воле; призрачному состоянию чужестранца, которое я так любила (stranger hear)…[234] состоянию сна или шапки-невидимки… Уже сейчас тоска по последним друзьям: Вам, Лебедевым, Андреевой (все это мне дала Прага, Париж не дал никого: чтo дал (Гронского) взял…)
Уже сейчас ужас от веселого самодовольного… недетского Мура – с полным ртом програм-мных общих мест…
…Мне говорят: а здесь – что? (дальше).
– Ни-че-го. Особенно для такого страстного и своеобразного мальчика-иностранца. Знаю, что отчуждение все равно – будет и что здешняя юношеская пошлость отвратительнее тамошней базаровщины, – вопрос только во времени: там он уйдет сразу, здесь – оттяжка…
(Не дал мне Бог – слепости!)
Так, тяжело дыша, живу (не-живу). <…>
Сергея Яковлевича держать здесь дольше не могу – да и не держу – без меня не едет, чего-то выжидает (моего „прозрения“), не понимая, что я – такой умру.
Я бы на его месте: либо – либо. Летом еду. Едете?
И я бы, конечно, сказала – да, ибо – не расставаться же. Кроме того, одна я здесь с Муром пропаду.
Но он этого на себя не берет, ждет, чтобы я добровольно – сожгла корабли (по нему: распустила все паруса). <…>
Мур там будет счастлив. Но сохранит ли душу живу (всю!).
Вот французский писатель Мальро вернулся – в восторге. Марк Львович ему: – А – свобода творчества? Тот: – О! Сейчас не время…
Сколько в мире несправедливостей и преступлений совершалось во имя этого сейчас – часа сего!
– Еще одно: в Москве жить я не могу: она – американская (точный отчет сестры).
Сергей Яковлевич предлагает – Тифлис. (Рай). – А Вы? – А я – где скажут: я давно перед страной в долгу.
Значит – и жить вместе, ибо я в Москву не хочу: жуть! (Детство – юность – Революция – три разные Москвы: точно живьем в сон, сны – и ничто не похоже! все – неузнаваемо!)
Вот – моя личная погудка…»[235]
Парализованная слишком высокой ценой, в какую могли обойтись колебания, Марина все-таки не теряла времени зря: она закончила эссе о недавно умершем писателе Михаиле Кузмине – «Нездешний вечер», а кроме того, согласилась прочесть на литературном вечере у друзей – тех самых Лебедевых, которых упоминала в письмах к Тесковой, – свое новое произведение, стихи о трагической участи императорской семьи. Вот как об этом вспоминает Марк Слоним: «В 1936 году, когда Аля готовилась к отъезду, а Сергей Яковлевич уже служил в Союзе возвращения на родину и вовсю уже сотрудничал с большевиками, М.И. закончила поэму об убийстве царской семьи и решила прочитать ее у Лебедевых, но попросила, чтобы среди немногих приглашенных на этот вечер обязательно был я.
М.И. объяснила мне, что мысль о поэме зародилась у нее давно как ответ на стихотворение Маяковского „Император“. Ей в нем послышалось оправдание страшной расправы как некоего приговора истории. Она настаивала на том, что уже неоднократно высказывала: поэт должен быть на стороне жертв, а не палачей, и если история жестока и несправедлива, он обязан пойти против нее.
Поэма была длинная, с описаниями Екатеринбурга и Тобольска, напоминавшими отдельные места из цветаевской „Сибири“, написанной в 1930 году и напечатанной в „Воле России“ (кн. 3–4, 1931). Почти все они показались мне очень яркими и смелыми. Чтение длилось больше часу, и после него все тотчас же заговорили разом. Лебедев считал, что – вольно или невольно – вышло прославление царя. М.И. упрекала его в смешении разных плоскостей – политики и человечности. Я сказал, что некоторые главы взволновали меня, они прозвучали трагически и удались словесно. М.И. быстро повернулась ко мне и спросила: „А вы бы решились напечатать поэму, если бы у вас был сейчас свой журнал?“ Я ответил, что решился бы, но с редакционными оговорками – потому что поэма независимо от замысла и желаний автора была бы воспринята как политическое выступление. М.И. пожала плечами: „Но ведь всем отлично известно, что я не монархистка, меня и Сергея Яковлевича теперь обвиняют в большевизме“. Тут все наперебой начали ее убеждать: дело не в том, что вы думаете, а какое впечатление производят ваши слова. Как всегда спокойная Маргарита Николаевна Лебедева умерила наш пыл: спор ведь оставался чисто теоретическим, поэму все равно негде было печатать. М.И. задумалась, потом с усмешкой заметила, что, пожалуй, когда-нибудь напишут на первой странице: „Из посмертного наследия Марины Цветаевой“. Но этому предсказанию не суждено было сбыться. Перед отъездом М.И. в Россию, в 1939 году, поэма об убийстве царской семьи и значительное количество стихов и прозы, которые М.И. справедливо сочла „неподходящими для ввоза в СССР“, были – при содействии наших иностранных друзей – отосланы для сохранения в международный социалистический архив в Амстердаме: его разбомбили гитлеровские летчики во время оккупации Голландии, и все материалы погибли в огне.
Странная участь постигла длинное письмо, посланное мне М.И. на другой день после чтения поэмы; она в нем с горячностью защищала право поэта говорить безбоязненно обо всем, о чем не полагается и как „ему поется“. И это, и все другие письма Цветаевой ко мне на литературные и личные темы (их было свыше полутораста) я дал на сохранение вместе с архивом „Воли России“ одному моему парижскому знакомому А. С. С-ву. После войны он уехал в СССР и либо уничтожил то, что я ему вверил, либо увез все с собой. Я все еще надеюсь, что весь этот очень ценный материал не погиб и в будущем отыщется в каких-нибудь советских литературных архивах».
15 февраля 1936 года Марина приняла участие в публичных чтениях в пользу поэтов-эмигрантов (не получив за это ни копейки), а назавтра – нисколько не заботясь о том, каковы будут последствия этого ее поступка, – в литературном вечере, организованном приверженцами «Союза возвращения на родину». Тоже, естественно, не за деньги. Читала в обоих случаях одно и то же. Этот – последний – вечер проводился в одной из квартир дома 12 по улице Бюси, снятой посольством СССР во Франции. Марина, согласившись там выступить, отлично сознавала, что поддерживает Сережу в деле политического обращения эмигрантов в другую веру, которому тот рьяно служил. Она оправдывала мужа тем, что его прошлое добровольца Белой армии позволяет ему без ущерба для чести приближаться к красным, а еще тем, что то мизерное жалованье, которое он за это, возможно, получает, вовсе не плата за предательство (оно стоило бы куда дороже), а оплата попытки разумного примирения сторон. Однако русская диаспора в массе все чаще и все более открыто упрекала семью Эфронов в том, что они ведут двойную игру, в чем Марина отказывалась сознаваться.
Другие выступления Марины перед читательской аудиторией состоялись в Бельгии, и поехала она туда по просьбе Зинаиды Шаховской. На этот раз публика была не такой настороженной. Цветаева читала свою прозу, в том числе и некоторые вещи, написанные по-французски. Выступления были достойно оплачены организаторами, и благодаря этой «манне небесной» Марина смогла купить кое-какие одежки Муру, которому до того было просто нечего надеть на себя, а ведь надо было, чтобы мальчик прилично выглядел, когда появится перед глазами своих советских «земляков».
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Марина Цветаева"
Книги похожие на "Марина Цветаева" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Анри Труайя - Марина Цветаева"
Отзывы читателей о книге "Марина Цветаева", комментарии и мнения людей о произведении.