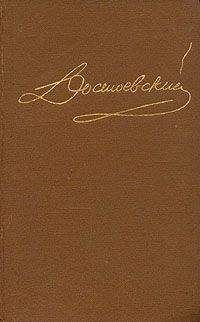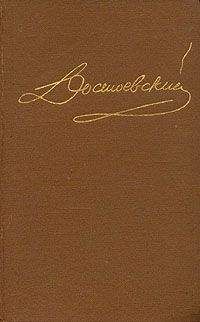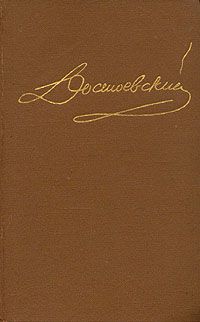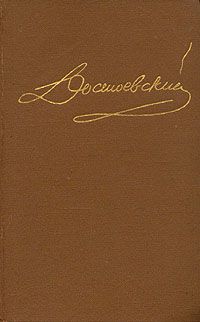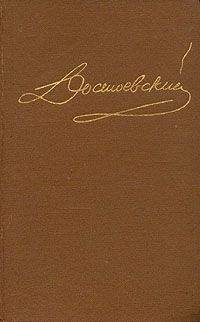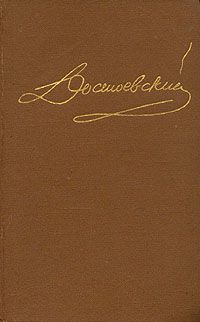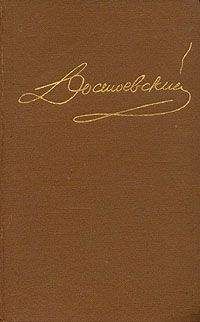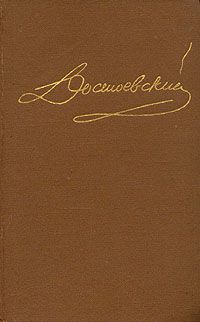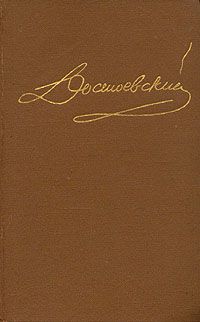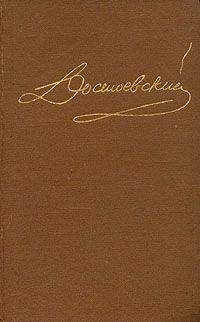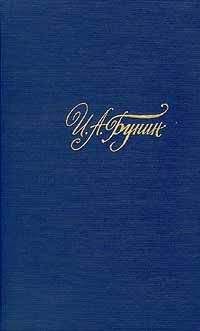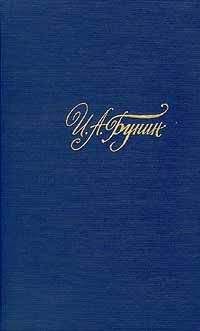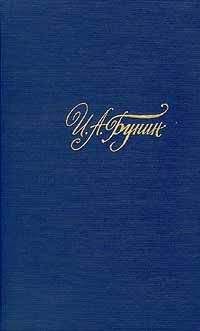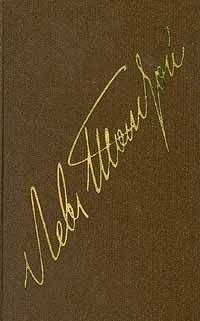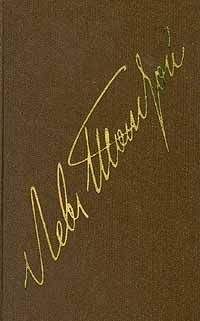Федор Достоевский - Том 11. Публицистика 1860-х годов
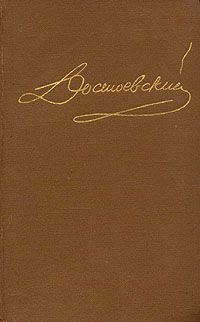
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Том 11. Публицистика 1860-х годов"
Описание и краткое содержание "Том 11. Публицистика 1860-х годов" читать бесплатно онлайн.
В одиннадцатом томе Собрания сочинений Ф. M. Достоевского печатаются публицистические произведения 1860-х гг.
Вот ведь охота-то говорить!
Уверяю вас, что я, пишущий эти строки, отнюдь не думаю и не верю, что я вышел весь из реторты. Я не могу этому верить. Но если б я и верил именно так, почему же тогда я не мог бы говорить о правах человека, об его пользе и об улучшении его быта? для чего было бы мне «смеяться в глаза моему единоверцу и жить как случилось?» Да из одной механической выгоды люди для того только, чтобы существовать, должны бы были согласиться между собою, условиться, а следственно, и связать себя взаимно долгом друг к другу. Вот уж и долг, а следственно, и цель в жизни. Без этого немыслимо общество. Каковы бы их убеждения ни были, ведь они все-таки остались бы людьми, природу свою не могли бы уничтожить? Чувство самосохранения было бы в них непременно; но, кроме того, человек, потому что он человек, ощутил бы потребность любить своего ближнего, потребность самопожертвования в пользу ближнего, потому что любовь немыслима без самопожертвования, а любовь, повторяем, не могла бы уничтожиться. Для этого человек должен бы был возненавидеть собственную природу свою. А уверены ли вы в этом? По крайней мере, это вопрос мудреный, и решить его так вдруг, как вы решаете, — невозможно. Это:
Вопрос, которого не разрешите вы*!
А вы решаете его что-то слишком спокойно, слишком торжественно, уж это одно подозрительно…
Вот вы, например, и о гуманности толкуете, и о развитии, а защищаете же обидчика, против обиженного. Вам так хочется его защитить, что вы решаетесь даже на неправду, говорите против очевидности, и вам это, кажется, ничего не стоит. Вы прямо говорите: «Он не выдумал каких-нибудь фальшивых фактов, не сообщил за истину каких-нибудь мерзких сплетен»; вы говорите это спокойно, хотя и знаете, что говорите неправду. Он не выдумал мерзких сплетен! А намек о тайнах? Что же это такое, по-вашему? И этот намек явился печатно; что вы ребенок, что ли, что не можете всего видеть и называть вещи их именами?
Много кой-чего и еще говорил «Русский вестник», но нам более всего понравились его суждения о Пушкине.
Именно о «Египетских ночах». Он и перед этим еще говорил о Пушкине много оригинального*; но теперь мы не будем разбирать его окончательного мнения. Говорим: окончательного, потому что оно высказано им, кажется, именно с той целью, чтоб окончательно и безапелляционно решить весь вопрос о Пушкине, возникший в нашей литературе с появлением бессмертной статьи г-на Дудышкина. На все эти мнения мы будем отвечать в особой статье, как мы уже обещали прежде, в начале появления нашего журнала.* Но не можем не сказать нескольких слов, по поводу суждения «Русского вестника» о «Египетских ночах». Из этого суждения перед нами ярко выставляется вся сила «Русского вестника» в понимании поэзии. Вообразите: он называет «Египетские ночи» «фрагментом» и не видит в них полноты — в этом самом полном, самом законченном произведении нашей поэзии! Он говорит, что «это только намек, мотив, несколько чудных аккордов, в которых что-то темно чувствуется, но ничто еще не раскрывается (!) для полного и ясного созерцания…»
«…Надобно слишком много условий, — продолжает он, — чтобы, кроме прелести стихов и очарования образов, уловить в этой пиесе намеки ее внутреннего смысла, который раскрылся бы в ней для всех доступно, если б художник совершил свое произведение вполне. Перед художественным созданием действительно не могут держаться мелкие соблазны, но не прежде, как идея целого покорит себе и одухотворит все частности. Этот демонский культ, требующий драгоценнейших человеческих жертв, эта царица, поникшая головою над чашей, под обаянием охватившей ее силы, Клеопатра, призывающая подземных богов в свидетели своей клятвы, — всё это, облеченное в плоть и кровь чарующих подробностей, могло бы быть откровением далекого и мрачного мира, и тогда идея целого управляла бы и смягчила бы всё, что теперь выступает слишком рельефно. Если б из этих мотивов вышла трагедия, она могла бы быть созданием гениальным…» и т. д., и т. д.
Вы говорите о трагедии, о развитии этого, как вы называете, фрагмента; но неужели вы не понимаете, что развивать и дополнять этот фрагмент в художественном отношении более невозможно, и что тогда вышло бы нечто совершенно другое, совершенно в другой форме, может быть равносильное, может быть высшее по достоинству, но только совершенно другое, чем теперешние «Египетские ночи», и, следовательно, утратило бы всё впечатление и всю мысль теперешних «Египетских ночей». Пушкину именно было задачей (если только возможно, чтоб он заранее задавал своему вдохновению задачи) представить момент римской жизни, и только один момент, но так, чтоб произвести им наиполнейшее духовное впечатление, чтоб передать в нескольких стихах и образах весь дух и смысл этого момента тогдашней жизни, так, чтоб по этому моменту, по этому уголку, предугадывалась бы и становилась бы понятною вся картина. И Пушкин достиг этого и достиг в такой художественной полноте, которая является нам как чудо поэтического искусства. Вы говорите, что всё это не облечено в плоть и кровь чарующих подробностей? Но тут до того ярки некоторые подробности, что приходишь в изумление и благоговение перед художественной силой поэта. Часто иная из таких подробностей очерчивается здесь одним стихом, одним словом, одним намеком, но до того цельно, метко и полно, что этот стих не забывается. Он переходит в потомство и становится выражением нарицательным для известного рода понятий; правда, эти подробности доведены именно до того предела, что прибавьте еще хоть одну какую-нибудь лишнюю подробность, и цельное впечатление картины, может быть, исчезло бы перед вами. Тут всё составляет один аккорд: каждый удар кисти, каждый звук, даже ритм, напев стиха — всё приноровлено к цельности впечатления. Впрочем, может быть, вы требуете более подробного описания, костюмов, архитектуры залы, города Александрии, Египта, Римской империи в ее географическом, статистическом, этнографическом и поэтическом отношении? Может быть, вам этих подробностей надобно? Что касается до г-на Дудышкина, то он непременно бы их потребовал.
Кстати, вы смеетесь над нашими словами по поводу впечатления, производимого статуями Венеры Медицейской и Венеры Милосской.* На неразвитое, порочное сердце и Венера Медицейская, сказано у нас, произведет только сладострастное впечатление. Нужно быть довольно высоко очищенным нравственно, чтобы смотреть на эту божественную красоту не смущаясь…
«Но разве Венера Медицейская или Венера Милосская, — возражаете вы, — представляют собою те выражения страстности, которые звучат в словах Клеопатры? Разве эти олимпийские типы не представляют собою самых целомудренных образов, проникнутых тем чистым изяществом, которое составляет живую душу приличия? Не являются ли эти образы сами олицетворением этой тонкой стыдливости, этой чарующей тайны? Разве резец не только Фидия и Праксителя, но даже ваятелей эпох упадка, доходил когда-нибудь до последних, выражений страстности?*»
И далее:
«Разве Рашель доходила когда-нибудь на сцене до чего-нибудь похожего на клятву Клеопатры?* Разве где-нибудь в Европе ли, в Америке ли могла бы артистка произнести перед публикой этот фрагмент, поневоле выдавая рельефно только то, что прямо указывает на последние выражения страсти, не будучи в силах одухотворить их тем намеком идеи, которая в неоконченном фрагменте не могла высказаться с полною силой, не могла бросить свой покров на то, что никогда не должно быть открытою тайной?»
Далось вам это «последнее выражение страсти». Но послушайте, неужели вы думаете, что если б статуи Венеры Медицейской и Милосской, при всем том, что они представляют собою целомудренные образы и самое тонкое выражение стыдливости, привезенные в Москву к нашим простодушным предкам, во времена хоть, например, Алексея Михайловича*, могли бы произвести на них какое-нибудь другое впечатление, кроме грубого и даже может быть соблазнительного? Не говорим, чтоб и тогда совершенно не было людей развитых, мы говорим вообще о впечатлении, которое бы произвели тогда на отцов наших эти немецкие «болваны». И неужели мы не правы, говоря, что надо быть высоко очищенным, нравственно и правильно развитым, чтобы взирать на эту божественную красоту не смущаясь. Целомудренность образа не спасет от грубой и даже, может быть, грязной мысли. Нет, эти образы производят высокое, божественное впечатление искусства, потому именно, что они сами произведение искусства. Тут действительность преобразилась, пройдя через искусство, пройдя через огонь чистого, целомудренного вдохновения и через художественную мысль поэта. Это тайна искусства, и о ней знает всякий художник. На неприготовленную же, неразвитую натуру, или на грубо-развратную даже и искусство не оказало бы всего своего действия. Чем развитее, чем лучше душа человека, тем и впечатление искусства бывает в ней полнее и истиннее.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Том 11. Публицистика 1860-х годов"
Книги похожие на "Том 11. Публицистика 1860-х годов" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Федор Достоевский - Том 11. Публицистика 1860-х годов"
Отзывы читателей о книге "Том 11. Публицистика 1860-х годов", комментарии и мнения людей о произведении.