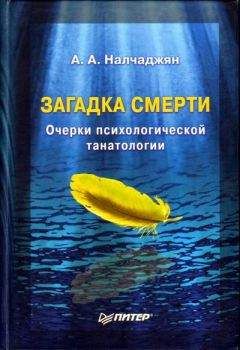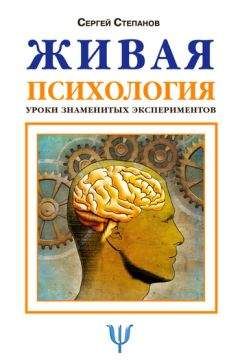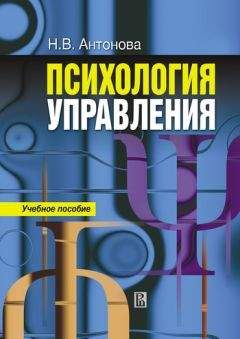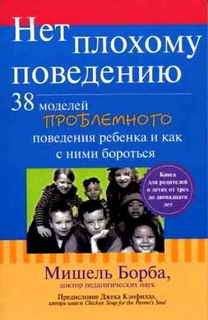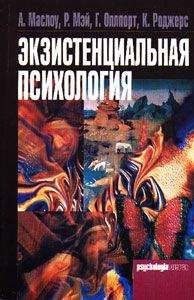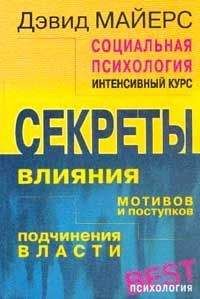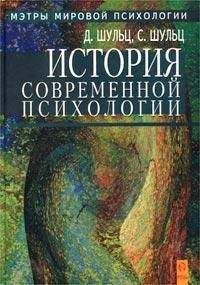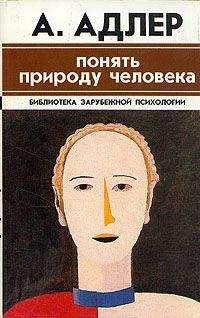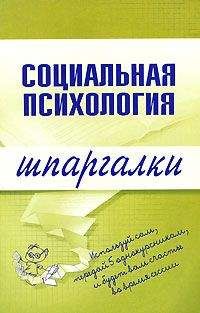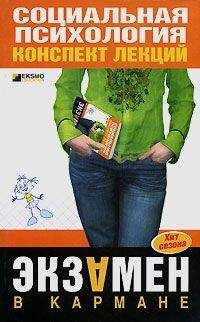Борис Поршнев - Социальная психология и история

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Социальная психология и история"
Описание и краткое содержание "Социальная психология и история" читать бесплатно онлайн.
Автор доказывает, что психика человека социальна, ибо она в огромной степени обусловлена общественно-исторической средой. Первая глава посвящена Ленину как социальному психологу. Ленин занимался социальной психологией как теоретик и практик революционной борьбы. В остальных главах речь идет об основных категориях социальной психологии. Большое внимание уделено автором категории «мы и они». «Мы и они» первичнее и глубже, чем «я и ты». «Мы и они» — импульс первоначального расселения людей. Вся огромная человеческая история это тоже «мы и они».
2. Компания друзей, замкнутая секта верующих, ряд других ситуаций могут быть приведены в качестве примера, когда конкретны, определенны только “мы”, противостоящие совершенно аморфным “они”. Один писатель в своих воспоминаниях рассказывает, что, когда ему было пятнадцать лет, он все человечество делил на два разряда — на людей, знающих и любящих Блока, и на всех остальных. “Эти остальные казались мне низшим разрядом”. В психике возраста “обожании” автор заметил тыльную сторону: выделение и отвержение разряда “всех остальных”. Нам интересно здесь не само обожание Блока. Так же неистово можно быть приверженным в более зрелом возрасте не герою, а идеалу, идее, догмату, истине. Но, всегда за неистовством мы вскроем деление людей по признаку “за” и “против”, “мы” и “они”.
В этом случае противостояние не является активным, “мы” скорее обособляются, чем нападают. Если взять класс школьников, то это не та ситуация, когда большинство сплачивается против одного-двух бузотеров, а та, когда в недрах класса обособляется кучка приятелей.
После неудач с психологией толпы буржуазная социальная психология ударилась в эту вторую крайность. Итальянский социолог Морено и ряд других принялись изучать преимущественно эти малые “мы”, связанные взаимной симпатией, дружбой и другими эмоциями, обособляющиеся в той или иной степени от аморфного и неограниченного множества других людей. Такие исследования методами анкетирования и оценки окружающих лиц по многобалльной системе проводились в армии, на предприятиях, в школах. Они выявили “микроструктуру” или “инфраструктуру” системы личных отношений, некоторую, если можно так выразиться, зернистость взаимного притяжения и отталкивания там, где на первый взгляд существует лишь рота, цех, класс и т.д. Зарубежные социальные психологи извлекли отсюда некоторые практические рекомендации для начальников и руководителей различных коллективов. Несомненно, некоторые полезные выводы из таких исследований могут быть извлечены и для практики социалистического общества.
Однако эти наблюдения заглядывают очень неглубоко под поверхность. Они опять-таки ограничиваются некими крайними вариантами, лежащими в стороне от основной массы социально-психических явлений.
Соответственно двум рассмотренным крайним случаям можно теперь ввести понятие наименее организованных и наиболее организованных общностей. Такую общность, которая противостоит аморфным или неопределенным “они”, мы будем называть организованной общностью: у нее есть лидер, авторитет, есть дифференциация функция руководства, есть соответствующая внутренняя структура. Напротив, чем определеннее и ограниченнее “они”, тем однороднее, оплошнее общность. Иными словами, тем менее она организованна и иерархична.
Это определение касается далеко не только микрогрупп, в которых невидимая, т.е. чисто психологическая, иерархичность бывает очень выражена при полной неопределенности всех, кто не “мы”. Могут быть взяты макрообщности, даже очень большие. Казалось бы, сказанное опровергается примером войны: противник даже очень организован, но это требует повышения в армии дисциплины, иерархической структуры. Однако посмотрим в динамике: пока не начались военные действия, армия потенциально противостоит не одной какой-либо, а вообще иноземным армиям. Но, если в страну вторгся вооруженный организованный враг, отпор ему почти всегда в истории имел тенденцию принять форму народной войны. Тогда кроме регулярной армии против вторгшегося неприятеля поднимается население, т.е. относительно менее организованная масса, возникает широкая инициатива на местах, снизу. Конечно, соотношение организованности и неорганизованности в реальной действительности очень сложно. Мы пока рассмотрели лишь абстрактные экстремали.
Наиболее перспективно было бы изучать не крайние варианты оппозиции “они и мы”, а гамму лежащих между ними ситуаций, когда в разной степени, в том числе и в равной степени, определенны и “они”, и “мы”. Такой тип социально-психических общностей составляет подавляющую массу в исторической и современной общественной жизни.
Этнопсихология, этнические и археологические культуры
В самой глубокой древности господствующим актом поведения по отношению к чуждым, к “ним”, по-видимому, было отселение подальше от них. Формирование этнической, языковой, культурной общности и резкой границы начиналось в той мере, в какой нельзя было просто уйти, отселиться. Археологам видно, что чем дальше в. глубь прошлого, тем грандиознее масштабы расселений. Люди, гонимые чем-то, не только переходили громадные расстояния, они плыли на бревнах по течению великих рек, мало того, отдавались неведомым течениям в морях и океанах, где многие гибли, иных же прибивало к берегам. Да и сам факт распространения вида “человек разумный” (Homo sapiens) на всех четырех пригодных к жизни континентах, на архипелагах и изолированных островах в течение каких-нибудь 10-15 тысяч лет говорит не столько о плодовитости этого вида, сколько о действии какой-то внутренней пружины, разбрасывавшей людей по лицу планеты. Этой пружиной, несомненно, было взаимное отталкивание. Взаимное этническое и культурное притяжение и сплачивание было значительно более высокой ступенью противопоставления себя “им”.
Если не говорить об авангардных группах, уходивших некогда особенно далеко в процессе расселения и отрывавшихся от всех себе подобных, то в историческое время на всю глубину, куда проникает взгляд науки, не было и нет на Земле ни одного вполне изолированного от соседей племени или народа. Причем отношения с соседями надо учитывать не только позитивные — торговый обмен, семейно-брачные связи, взаимные визиты, культурные заимствования, — но и негативные: ведь если два человека повернулись друг к другу спиной или стараются не походить друг на друга — это тоже отношение. Судя по всему, отношения племен и народов в отдаленном прошлом были по преимуществу именно такими. Но они не теряли друг друга из вида, и поэтому мы должны считать это отношениями.
Правда, многие археологи, антропологи, лингвисты готовы представить себе древнейшее первобытное человечество как состоящее из множества совершенно изолированных общественных единиц, скажем, кочующих и не ведающих друг о друге родовых групп. Такое представление развилось на смену прежней идее лингвистов о праязыках — об историческом единстве обширнейших семейств языков и народов, восходящих к исходному пранароду с его языком. Но в противовес и тому и другому воззрению некоторые советские ученые для характеристики древнейшей стадии развития языков выдвинули новую, довольно убедительную схему. Это — картина непрерывной цепи первобытных говоров: две любые соседние группы говорят на диалектах разных, но все же понятных друг для друга. Естественно, что по отношению к более отдаленным группам непонимание усиливается, а какое-либо переселение рода или группы может вызвать разрыв этой первобытной непрерывности и люди оказываются соседями совершенно иноязычных людей. В этой схеме нам сейчас интересна лишь та сторона, которая подчеркивает различие говоров между любыми соседними | группами. Такое различие не могло быть плодом естественных причин. Оно всегда служило искусственным средством для обособления и отличения своих от чужих. Скажем, у одних темп речи более быстрый, чем у других, или различны ударения, или одни говорят с менее открытым ртом, другие — с более открытым, вследствие чего губные звуки в той или иной мере заменяются зубными и язычными, одни избегают тех шипящих или щелкающих звуков, какими пользуются другие, и т.д. Чужих узнают по их отличию от своих, своих — по их отличию от чужих. Но язык — это лишь один из элементов культуры. Археологи обнаруживают на смежных территориях несколько или даже сильно разнящиеся друг от друга типы орудий, жилищ, утвари, украшений. Значит ли это, что в различиях отразилась изолированность друг от друга носителей этих культур? Нет, отвечает социальная психология, люди таким путем внешне выражали и психологически закрепляли отношения между “мы” и “они”.
Этнографии известны бесчисленные примеры таких искусственно поддерживаемых бытовых и культурных различий между соседями. Роды, племена, локальные группы всегда отличают себя от других и других от себя хоть по какому-нибудь признаку. Чрезвычайно красочны традиционные праздничные наряды, различные в разных местностях Прибалтики. Даже для двух соседних деревень в дореволюционной России отмечалось наличие дуализма по той или иной сознательно акцентируемой этнографической детали: “у нас наличники на окнах иные, чем у них”, “у нас это колено в песне выводят не так”. А взаимное противопоставление между соседними областями выступало в очень многообразных формах, в том числе в виде взаимных шуток и насмешек.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Социальная психология и история"
Книги похожие на "Социальная психология и история" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Борис Поршнев - Социальная психология и история"
Отзывы читателей о книге "Социальная психология и история", комментарии и мнения людей о произведении.