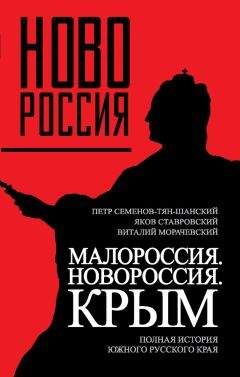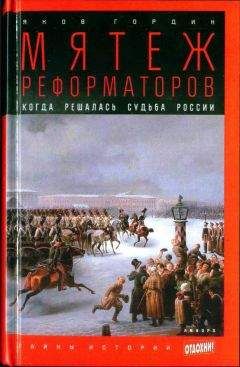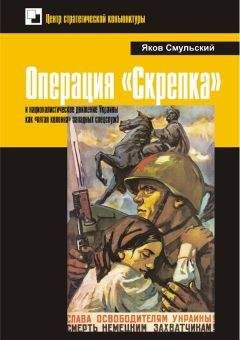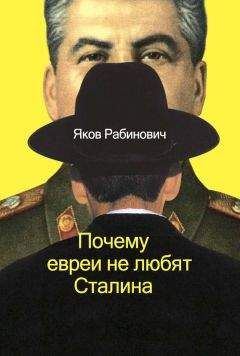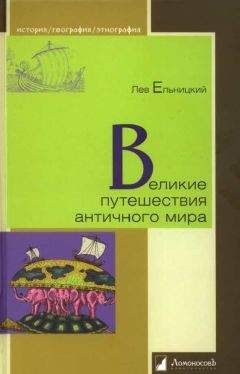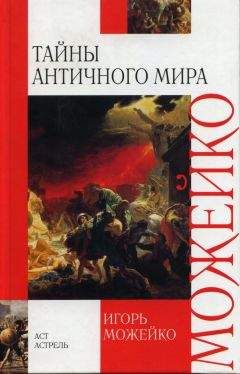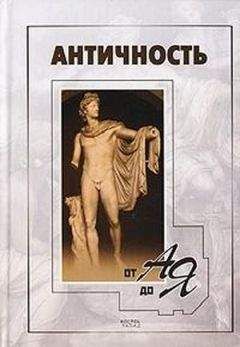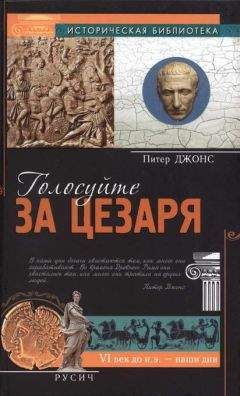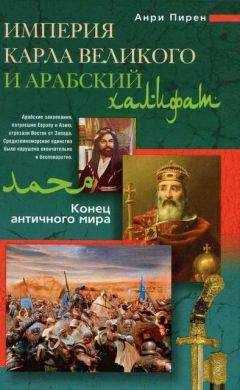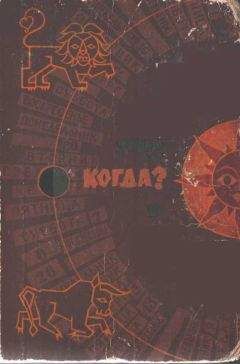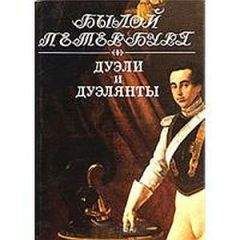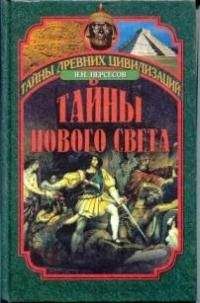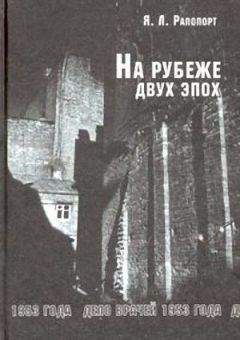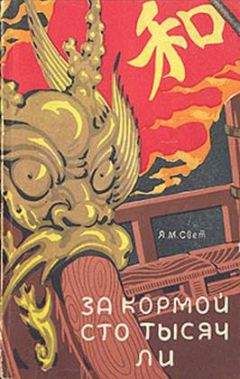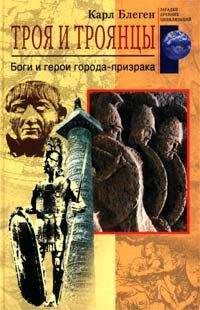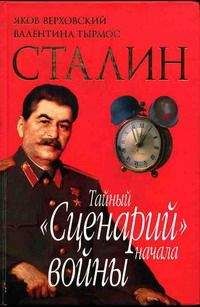Яков Голосовкер - Логика античного мифа
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Логика античного мифа"
Описание и краткое содержание "Логика античного мифа" читать бесплатно онлайн.
Одностороннему «виденью» Киклопа противопоставлено «виденье» многостороннее. Но и оно оказалось недостаточным перед дальновидностью бога. Одноглазый дикарь киклоп Полифем был ослеплен хитроумным Одиссеем, потому что Полифем был слеп умом по сравнению с умом Одиссея.
Одноглазое зрение – духовнослепое зрение.
Но и тысячеглазый Аргус оказался слепым пред глубоким виденьем-знанием Гермеса – и отлетела голова Аргуса: во все стороны видящий – еще не всевидящий.
Еще шаг, еще усиление образа – и перед нами встает всевидящий Гелий – Солнцебог, который по Гомеру:
Все видит, все слышит, все знает* [56].
Он даже знает то, чего никто на земле не знает: он знает, кто похитил Кору-Персефону. Мать Деметра от него услышала мрачное имя похитителя – владыки преисподней, бога Аида: смерть похитила Кору.
Но образ всевидящего Гелия – сверхчеловеческое знание. Кривая же смысла пока не выходит за пределы якобы человеческого. Поэтому не от сверхобраза Гелия, а от образа Аргуса, от многостороннсвидящего ведет логический путь к третьему образу – образу Дальнезоркого и все насквозь видящего Линкея.|
Это Линкей-аргонавт, стоя на носу корабля Арго, вглядывался в далекое море: близки ли роковые скалы Симплегады. Он видит даже сквозь землю, он проницает взором твердые тела: это он увидел сквозь кряжистую кору спрятавшегося в дупле исполинского дерева одного из Диоскуров – героя Кастора, и руководимый зоркостью Линкея его брат, могучий гордец Идас, послал копье и поразил затаившегося в дупле героя.
Но и дальнезоркое виденье не спасло Линкея, и он пал от руки брата Кастора, бессмертного сына Зевса – Полидевка. И он оказался слепым пред сыном Зевса, звезду горящую зажигающим морякам на мачте в ночь непогоды [57] ‹…›
Одностороннее виденье – многостороннее или всестороннее виденье – виденье дальнезоркое и виденье насквозь олицетворяют образы Киклопа, Аргуса, Гелия, Линкея. Ими внешнее зрение исчерпано. Нужен переход к внутреннему зрению, переключение смысла. И возникает образ мудрого Эдипа – сперва зрячего слепца, а затем слепого провидца (ясновидящего). Это не истолкование абстрактных символов. Сам миф дает зримые, материальные, чувственные образы: сперва образ зрячего Эдипа, затем образ Эдипа ослепленного.
Эдип в трагедии «Эдип царь» еще зряч, но он сам ослепляет себя, когда осознает всю самонадеянность своей ограниченной зрячести смертного. Будучи предупрежденным, что он убьет своего отца и женится на своей матери, убегая от убийства и кровосмесительного брака, он все же убил своего отца, не желая, не зная, что это его отец (о слепота!), и он женился на своей матери Иокасте, не зная, что это его мать (о слепота!). Он совершил два самых тяжелых преступления – отцеубийство и кровосмешение – по неведению, по слепоте своей. Он преступник по неведению. Более того: он преступник поневоле. Но что такое «неведение» и что означает «поневоле» без насильственного внешнего принуждения, как не слепоту? Он видел своего отца, он видел свою мать – и он убил его, и совершил кровосмешение. И это значит быть зрячим! И это значит быть мудрым – разгадать загадку Сфинкса! – Нет, это слепота. Так прочь же слепое зрение! Лучше мрак, чем обман, – и Эдип вырывает у себя глаза. Внешний мир «виденья» исчез. Осталась только ощупь его. Но ему открылся внутренний мир: и смысл образа «виденье» переходит из внешнего к внутреннему виденью – к внутреннему оку.
«Слепота зрячести» тотчас оборачивается в «зрячесть слепоты». Образ духовно слепого при физической зрячести Эдипа вызывает образ провидца, слепого старца Тиресия, знавшего то, чего не знал зрячий Эдип. Сам Эдил не знает, а Тиресий знает, что Эдип отцеубийца и муж своей матери.
Некогда в юности Тиресий был зряч. Но он случайно дерзкими глазами смертного увидел то, чего смертный не смеет видеть: нагую купающуюся бессмертную богиню Палладу. И богиня, выпрыгнув из воды, вырвала у юноши глаза. Мы уже знаем: по молению матери Тиресия нимфы Харикло, подруги Паллады, Тиресий – такой же преступник поневоле, как Эдип, – получил дар провидца: дар понимать голоса птиц, волю богов и видеть грядущее.
Тиресий получил свое внутреннее виденье, то есть прозрение свое, познание от богов в дар как плату за ослепление, Эдип сам же обретает свое прозрение в конце многострадального пути как искупление и награду. В трагедии «Эдип в Колоне» Софокла Эдип, став старцем, обогащается таким же знанием-провиденьем, как и Тиресий. Он видит грядущее: судьбу своих, им же самим проклятых сыновей и грядущую славу Афин, предоставивших ему в роще Эриний место вечного упокоения.
В мифологических образах провидцев – Эдипа в Колоне и Тиресия – в этих олицетворениях «зрячей слепоты» виденье открывается нам как «веденье»: его смысл переходит в новую форму. Впервые в мифе возникает идея замещения мнимой проницательности утраченного органа зрения (глаза), основного источника чувственного опыта, радости жизни и знания, часто, быть может, иллюзорного и перспективного, но восторгом красоты переполняющего сердце эллина.
Миф отчетливо высказывает, что Паллада взамен вырванных глаз даровала Тиресию ясновиденье, высшее постижение тайн природы: ибо что такое понимание голосов птиц и богов, как не постижение тайн природы. И что такое ясновиденье провидца, как не торжество мысли, разгадывающей грядущее и предуказывающей пути человеку среди его вечной одиссеи. Загадка Сфинкса, разгаданная мудрым Эдипом, означала: человек. Не случайно такая ходячая энигма (загадка), почти поговорка, известная каждому встречному, попала в миф об Эдипе и была использована Софоклом.
Мудрость этой загадки – в ее второй части – в разгадке.
Когда зрячий Эдип разгадал загадку Сфинкса: кто ходит
утром на четырех, днем на двух, а вечером на трех ногах? – и сказал: человек, его мудрость была еще слепа. Ибо с разгадки, со слова «человек», только и начинается мудрая загадка Сфинкса: что знает Человек? Что может знать Человек? Загадка Сфинкса – загадка знания. Только пройдя долгий путь страдания, опираясь на посох нового внутреннего опыта, понял слепой Эдип тайну знания, как бы прозрев в своей слепоте.
И, думается, когда Эдип разгадал Сфинксу загадку, и Сфинкс, признав торжество Эдипа, кинулся в море, он загадочно улыбнулся: так, как улыбается Сфинкс.
И самый миф и Софокл вряд ли воспользовались бы этой ходячей энигмой о хождении утром на четырех, днем на двух, а вечером на трех ногах, если бы она не означала: «Человек, что знаешь ты!» На тайне человеческого знания построена та трилогия об Эдипе-фиванце у Софокла: трагедия «Эдип» -трагедия слепоты и прозрения.
По представлению древних у слепого повышенное воображение. Оно объемнее и чувствительнее, чем у зрячего. Оно должно непрерывно восполнять слепому видимый зрячими мир, и этот мир должен в нем всегда жить, как некое виденье.
Виденье мира вместо веденья мира. Поэтому богатство творческого воображения, которым живет мысль творца-поэта, было подсказано древним образом Слепца, у которого внешняя чувственная слепота заменена как бы внутренним зрением: Гомер слеп. Но Гомер – все же история. Миф же создает главного певца-аэда Демодока «Одиссеи», которому, как уже было упомянуто, музы взамен слепоты ниспослали дар песнопения… дар мусического восполнения и замещения утраченного зрелища видимого мира зрелищем мира воображаемого. И то внутреннее сосредоточение мысли, которое открывает слепцу-поэту нечто непознаваемое для зрячего, делая для него тайное явным и находя для этого пленительное выражение, вся эта творческая работа его воображения и трактуется мифом как вдохновение, как дар муз, ниспосланный поэту. Так прозрение слепоты переходит во вдохновение и в виденье – веденье художника, одержимого творческой мечтой. Еще шаг – и мифологический образ в своем логическом продвижении вступает в следующую фазу – в фазу виденья в экстазе или энтузиазме вакхического, дионисийского исступления – виденья мира желаемого как мира действительного, то есть того иллюзорного мира, который открывается якобы вакханту или вакханке-менаде – Агаве, Пенфею, Афаманту, Ликургу и другим.
Виденью – веденью, знанию провидца и поэта миф противопоставляет теперь мнимое знание безумца-оргиаста, зверина-яростное, но и восторженно-опьяняющее по ощущению и в то же время пустое и часто гибельное по результатам.
Снова при движении по кривой смысла образ «зрячести слепоты», то есть прозрения поэта, переходит в «слепоту мнимой зрячести», в безумие, омрачающее зрение исступленного вакханта.
Пенфей в «Вакханках» Еврипида видит Диониса в оковах, видит обрушенным дворец – но это только морок, бред. Его мать Агава в вакхическом безумии принимает своего сына Пен-фея за льва и вместе с другими вакханками разрывает его на части и даже не узнает головы сына, продолжая в ней видеть голову льва. А царь Афамант в дионисийском ослеплении принимает свою жену Ино и сына за львицу со львенком, и Ино, спасаясь от него бегством, бросается с ребенком в море.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Логика античного мифа"
Книги похожие на "Логика античного мифа" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Яков Голосовкер - Логика античного мифа"
Отзывы читателей о книге "Логика античного мифа", комментарии и мнения людей о произведении.