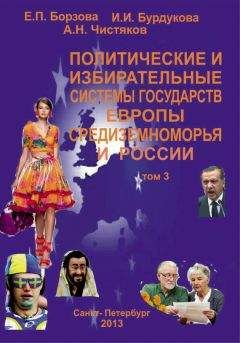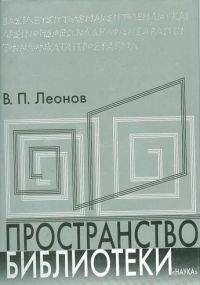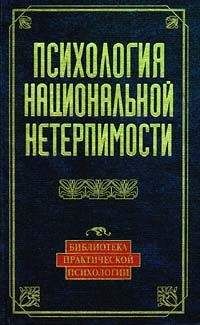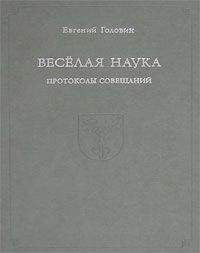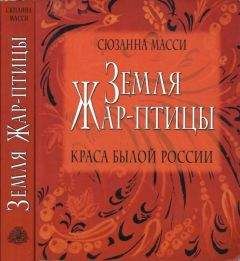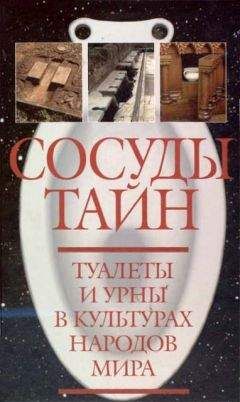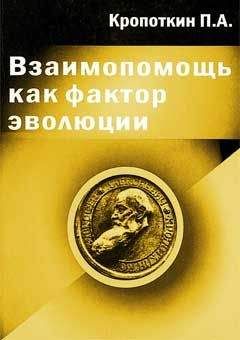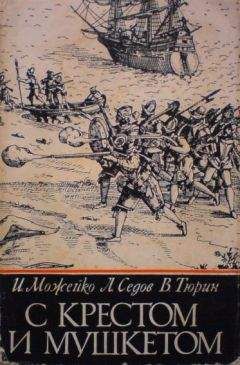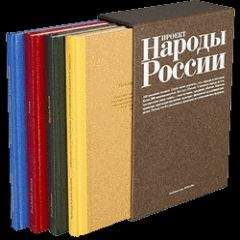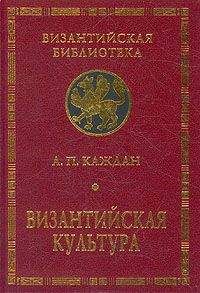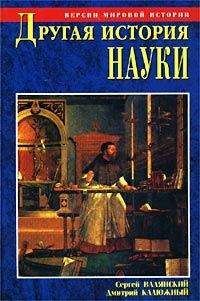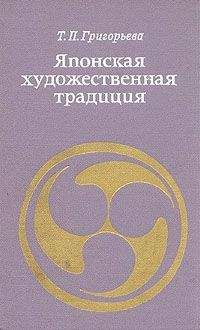Сергей Романовский - "Притащенная" наука
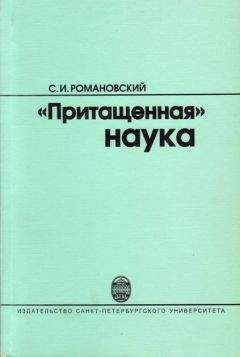
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги ""Притащенная" наука"
Описание и краткое содержание ""Притащенная" наука" читать бесплатно онлайн.
Наука в России не стала следствием эволюции культурологической компоненты национальной истории. Её Петр Великий завез в страну из Европы, т.е., говоря иными словами, "притащил", пообещав европейским ученым "довольное содержание" труд. Наша наука, как это ни дико сегодня звучит, состоялась вследствии "утечки мозгов" из Европы. Парадокс, однако, в том, что в России европейская наука так и не прижилась. При абсолютизме она была не востребована, т.е. не нужна государству. Советская же власть нуждалась лишь в ток науке, которая ее укрепляла - либо физически, либо идеологически. К остальной науке в те годы относились с полным безразличием. Ничем (в этом смысле) не выделяется и настоящее время, идо традиционная для России "притащенная наука" ужд финишировала, а новая еще не приняла достойный России статус.
Вся эта необычная для традиционного развития науки проблематика подробно обцуждается в книге. Автор надеется, что она будет полезной историкам, историкам науки, культурологам, политологам, а также студентам гуманитарных и естественнонаучных факультетов университетов.
В этом утверждении – лишь малая доля истины. Бесспорно лишь то, что реформы Петра Великого готовили все его предшественники последних столетий. Еще при Борисе Годунове вынуждали русское боярство носить европейские кафтаны и пытались заставить их брить бороды; то же делали дед и отец Петра. Еще Борис Годунов отправил на учебу за границу партию смышленых русских отроков, но все они стали первыми невозвращенцами. Михаил Романов старался реформировать русскую армию, желая сделать ее профессиональной. А Алексей Михайлович метался в поисках подходящих экономических новаций, поскольку казна дала катастрофическую течь.
Все это действительно было. Но делалось эпизодически и вяло, а потому так ничего до конца и не было доведено. Самым «последовательным» реформатором был лишь один Иван Грозный. Своей патологической, не поддающейся никакому рациональному осмыслению, жестокостью он посеял такой глубинный неистребимый страх в людях, что страх этот, передаваясь от поколения к поколению, благополучно дожил до времени петровских реформ. Именно «государев страх», а ничто другое явился лучшим «помощ-ником» всех начинаний Петра Великого.
В отношении науки в реформах Петра просматривается вполне определенный парадокс: реформы дали мощный начальный импульс для ее развития, но одновременно дух и стиль всей реформаторской программы были такими, что неизбежно должны были в дальнейшем заглушить начавшие проклевываться ростки свободной научной мысли. Объясняется это просто: Петр реформировал систему российской государственности, нисколько не заботясь об обратных связях. А потому все реформы, исключая те, что цементировали систему управления, после смерти преобразователя мгновенно остановились или даже дали обратный ход.
Так, уже при Елизавете Петровне президент Академии наук граф К.Г. Разумовский докладывал Сенату: что касается заявления некоторых академиков, будто «науки не терпят принуждения, но любят свободу», то, по его мнению, за этими словами скрывается ни что другое, как «желание получать побольше денег, но поменьше работать» [123]. Подобное отношение российского чиновничества к науке, сохраняясь все последующие годы, благополучно дожило до наших дней. Но начальный импульс такого небрежения был задан Петром I, ибо – не грех и повторить – Академия наук была в то время нужна лично ему, но не России.
Про реформы Петра обычно говорят, что он стремился подогнать Россию под общеевропейский стандарт, силился навязать России Европу, наплевав на историю страны, национальные традиции, особую историческую миссию России и т.д. Если бы так, то никакой беды бы не было. Россия, даже полностью переняв европейский стиль жизни, все равно осталась бы именно Россией и никогда не превратилась бы в подобие Германии или Франции. Беда в том, что Петр с его исполинским замахом копал на самом деле очень мелко. Его реформы, в том числе и научная, истинно русской жизни, российской глубинки не затронули. У Европы он перенял лишь вершки (одежда столичной знати, немецкая речь, ассамблеи, коллегии по-шведски и т.п.), а корешки остались в российской почве. Их он не только не вырвал, но своими реформами вынудил расти еще более интенсивно.
Реформаторский дух, которым в начале XVIII века уже жила Европа, Петр сознательно не заметил. Он поставил перед собой практически неразрешимую задачу: поднять экономику страны, не дав свободы товаропроизводителю, повести за собой православных, одновременно открыто издеваясь над церковью, привить любовь к научному поиску при открытом пренебрежении государства к труду ученых.
На самом деле в Европе экономика постепенно освобождалась от административных пут. В России же еще при Петре экономика полностью закостенела – стала не саморегулируемой, а чиновнично-бюрократической. Даже частные предприятия, по словам В.О. Ключевского, «имели характер государственных учреждений». На Западе уже в то время развивался рынок свободной рабочей силы. Петр же зареформировал российскую экономику до того, что в стране появился невиданный ранее слой общества – крепостные рабочие. Отсюда, кстати, и неизбежные беды российской науки, ведь хорошо известно, что именно оптимальное развитие экономики страны предопределяет органичную потребность в труде ученых, ибо только в этом случае научные открытия востребуются обществом и оно же дает дополнительные стимулы для дальнейшего развития науки. Коли этого нет, то наука остается уделом ученых-подвижников, научный поиск является их личной судьбой, а общество вполне может обойтись и без науки и без ученых.
* * * * *
То, что наука – система жесткая и авторитарная, хорошо известно. Жесткость задана изначально конечной целью науки – поиском Истины, а авторитарность предопределяется тем, что истина покоряется только людям талантливым и одержимым. Именно они всегда являются лидерами зримого или незримого научного коллектива. Однако кроме понятия «лидер» есть еще одно, не менее значимое – чиновник от науки. Именно он является реальным руководителем, управленцем и от его управленческого таланта зависит главное – возможность реализовать свои способности рядовыми научными работниками. У каждого чиновника есть свой начальник – чиновник большего калибра, и вся эта чиновничья армада складывается в непроницаемую паутину, под которой барахтается ученый.
В России чиновничья паутина во все времена обладала двумя особенностями: во-первых, чем более высокий пост занимал чиновник, тем ниже был уровень его профессиональной компетенции, и, во-вторых, непосредственным делом занимались чиновники нижних ступеней, а чиновная элита служила лишь политическим рупором власти. Все же вместе были заняты деформацией политики в практические дела. А так как российский чиновник всегда уверен, что его распоряжения следует выполнять, как армейский приказ, то в чести у него те, кто смотрит не мигая и исполняет не рассуждая. Когда у министра народного просвещения И.Д. Делянова спросили: «Отчего философ В.С. Соловьев не профессор? – У него мысли», – сказал министр [124].
Отмеченные особенности – не результат сегодняшнего кабинетного анализа. Они лежат, что называется, на поверхности, а потому замечались всегда. С первого «номенклатурного» назначения президентом Академии наук 18-летнего юноши К.Г. Разумовского в 1746 г. стало ясно, что наука, а чуть позднее и высшее образование, отдаются «на откуп» людям верным, в первую очередь, власти, а уж затем делу, коим они поставлены управлять. По этой причине российское чиновничество никогда не пользовалось уважением тех, кем оно руководило. И чем выше пост, тем это уважение меньше.
«Главный враг в России – чиновник во всех видах и формах, – записывает 8 апреля 1900 г. в своем дневнике В.И. Вернадский. – В его руках государственная власть, на его пользу идет выжимание соков из народной среды… Эта гангрена еще долго и много может развиваться» [125].
Мы отмечали уже, что одной из сущностных «особостей» России является не ее плавное эволюционное развитие, а эпизодические реформы, призванные это развитие подхлестнуть. И начинались они не тогда, когда предельная разбалансированность политической, экономической и социальной систем как бы подсказывала сама, что пришло время что-то делать, а когда во главе государства оказывался монарх, реформаторские притязания которого соответствовали его внутренним нравственным обязанностям. Вообще говоря, «реформаторами» были все российские государи, ибо во все времена ощущалась необходимость в каких-либо переменах. Каждый из них вводил некие новшества в русскую жизнь, пытался что-то изменить, что-то скорректировать. Однако лавры «реформатора» достались всего двум царям: Петру I и Александру II, ибо именно они, каждый по-своему, изменили русскую жизнь до неузнаваемости.
В частности, Александр II, что стало ясно уже в его время, взвалил на себя непосильную ношу, ибо у него не хватило твердости обуздать русское общество, пошедшее вразнос благодаря неуправляемой лавине реформ. К тому же он не обладал решающим качеством любого преобразователя – умением подбирать кадры чиновников для практической реализации своих начинаний. Все современники дружно писали о «бездарных», «трусливых», «тупых» министрах правительства Александра II, а для чиновников рангом ниже вообще не находили подходящих благозвучных эпитетов в русском языке.
Любопытно следующее. Каждое новое царствование, как правило, начиналось корректировкой политического курса и формированием нового правительства [126]. Однако основная масса чиновников оставалась на своих местах. Ранее они слепо выполняли одни команды, теперь были готовы с той же безоглядностью исполнять другие.
Так, историк М.Н. Погодин, один из идеологов николаевс-кого царствования, мыслями которого во многом пропитаны конкретные шаги «охранительного» режима, сразу после смерти Николая I вдруг «прозрел» и стал советовать Александру II реформы невиданного размаха. «Надо вдруг приниматься за всё», – писал он императору еще в 1856 г. [127].
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на ""Притащенная" наука"
Книги похожие на ""Притащенная" наука" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Сергей Романовский - "Притащенная" наука"
Отзывы читателей о книге ""Притащенная" наука", комментарии и мнения людей о произведении.