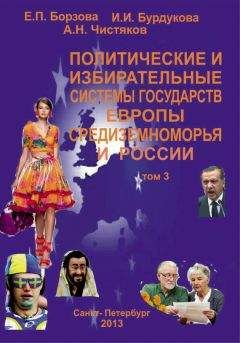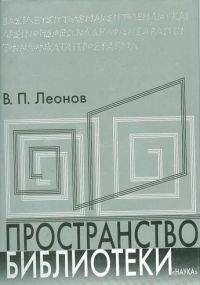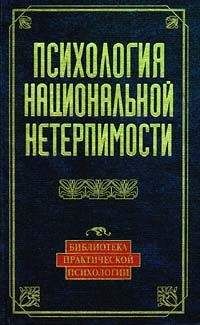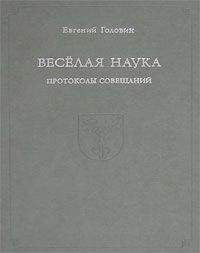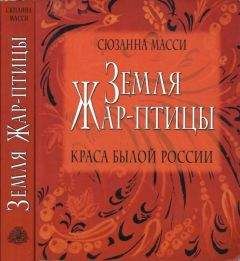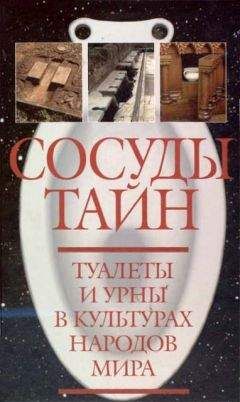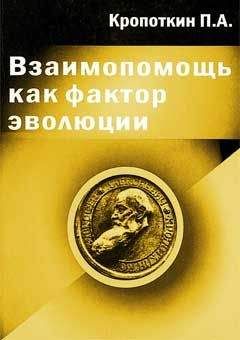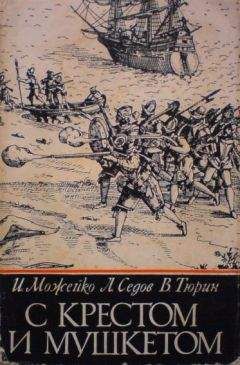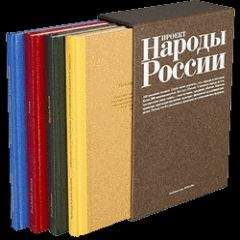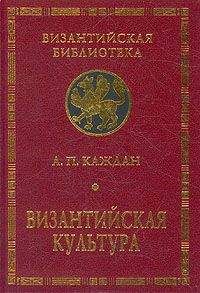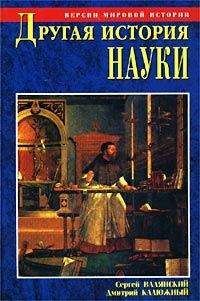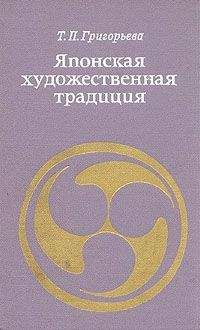Сергей Романовский - "Притащенная" наука
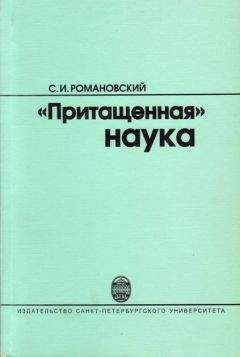
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги ""Притащенная" наука"
Описание и краткое содержание ""Притащенная" наука" читать бесплатно онлайн.
Наука в России не стала следствием эволюции культурологической компоненты национальной истории. Её Петр Великий завез в страну из Европы, т.е., говоря иными словами, "притащил", пообещав европейским ученым "довольное содержание" труд. Наша наука, как это ни дико сегодня звучит, состоялась вследствии "утечки мозгов" из Европы. Парадокс, однако, в том, что в России европейская наука так и не прижилась. При абсолютизме она была не востребована, т.е. не нужна государству. Советская же власть нуждалась лишь в ток науке, которая ее укрепляла - либо физически, либо идеологически. К остальной науке в те годы относились с полным безразличием. Ничем (в этом смысле) не выделяется и настоящее время, идо традиционная для России "притащенная наука" ужд финишировала, а новая еще не приняла достойный России статус.
Вся эта необычная для традиционного развития науки проблематика подробно обцуждается в книге. Автор надеется, что она будет полезной историкам, историкам науки, культурологам, политологам, а также студентам гуманитарных и естественнонаучных факультетов университетов.
В 1977 г. Л.В. Канторович подсчитал, что если в 1966 г. за счет внедрения науки в производство национальный доход в СССР вырос на 2,2 %, то уже к 1976 г. этот показатель упал до 0,8 %. Причина очевидна: сказался результат экстенсивного и экономически уродливого развития советской науки.
Академик Н.Н. Моисеев подтверждает, что одним из главных симптомов упадка науки уже в 60-х годах отошедшего столетия было «состояние дел с вычислительной техникой». Именно в этом, стоящем на самых передовых рубежах развития научной мысли, сфокусировалась «вся несостоятельность нашей общественной организации и неспособность общества остановить свой бег к неизбежной катастрофе» [304]. И далее очень для нас важные слова: как только начался переход от ламповых ЭВМ к транзисторным компьютерам, наша «бюрократизированная, расписанная по отраслям-монополис-там экономика была неспособна принять этот вызов научно-технической революции – он оказался для нее не просто неожиданным, а смертельным» [305]. Теперь мы и от США, и от Японии, и от Южной Кореи отстали в этом вопросе принципиально. Это означает, что уже никогда мы не сравняемся с ними в технологии производства современных компьютеров.
Как же такое могло произойти в стране, развивающей науку «по всему фронту», не жалевшей ни сил, ни средств на ее развитие? Очень просто. В годы господства у нас социалистической модели экономики, особенно когда социализм показался партийному руководству «развитым», пропорции в народном хозяйстве регулировались не естественным образом, т.е. посредством рыночных механизмов, а в основном волевым порядком, на основании «так надо» или «так хочу». Потому и сформировалась у нас наука с отчетливым военным флюсом. Деньги же на ее развитие забирались у нищего населения, разоренной деревни, у убогой сферы услуг. Но и эти деньги не приносили нужного эффекта: большая часть отчетов по наиболее важным для народного хозяйства темам шла «на полку» отнюдь не всегда по причине принципиального отторжения производством научных инноваций, скорее потому, что эти инновации никакого интереса для производства не представляли [306].
* * * * *
Так мостился экстенсивный путь развития науки. К тому же уже заработали с предельной нагрузкой институты красной профессуры, Коммунистическая академия, аспирантура при Академии наук и прочие кузницы научных кадров. Именно эта, зачатая второпях, советская интеллигенция первого поколения, в массе своей к науке вовсе не способная, стала самым верным, самым преданным и послушным проводником генеральной линии. Шаг влево, шаг вправо от этой линии означал научную смерть.
Для подобной научной интеллигенции 30 – 50-е годы были временем бурного расцвета. Они стали подлинными творцами того научного климата, который более всего их устраивал. За это время они успели наплодить себе подобных, и те, не испытывая никаких комплексов, пошли вразнос, они насмерть стояли за «чистоту идеи». По сути это был махровый цинизм, ибо в годы взбесившегося ленинизма на все эти идеи новой научной номенклатуре было глубоко наплевать. Они лишь самозабвенно озвучивали их, оберегая собственное благополучие.
Но самое печальное в том, что к хору такой интеллигенции во множестве присоединялись люди по-настоящему талантливые, которым, чтобы более или менее сносно работать, надо было соблюдать все сложившиеся правила игры, т.е. участвовать в проработках, занимать активную позицию в проводимых партией кампаниях. В противном случае их ждала участь изгоев. Так прорезалось еще одно свойство советской интеллигенции, которое дало возможность метко окрестить ее как гнилую.
Все ученые в те годы в равной мере были заражены вирусом «государева страха». Все находились в одинаковом положении, ибо все они жили под гнетом истории. Избавиться от него было невозможно, как нельзя избавиться от воздуха, которым дышишь.
* * * * *
Итак, можно сказать, что мутация русской науки в науку советскую продолжалась до тех пор, пока инстинкт самосохранения научного сообщества не привел к тому, что его интеллект смог усыпить совесть. Когда это свершилось, науку с полным правом можно было называть советской, ибо методология познания была заменена идейными указаниями, а научный социум стал служить не истине, а услуживать власти [307].
Направленность этого процесса стала заметной еще в начале 20-х годов, когда ученые для обоснования своих позиций охотно апеллировали к марксизму как к арбитру в разрешении научных споров, причем делали это задолго до того, как подобные реверансы стали обязательными. От ученых еще ничего подобного не требовали, а они уже клялись в верности идеям марксизма. Когда же в конце 20-х – начале 30-х годов политический и идеологический контроль над мыслью попросту убил ее и в научной среде мгновенно и как бы из ничего выросли апостолы «спущенной правды», бдительно охранявшие интерпретационное поле науки, советская наука охотно перелицевалась в квазинауку [308]. Не давая жесткого определения этому понятию, скажем, что теории, доктрины и учения квазинауки «работали» только в рамках советской науки, мировой же наукой они не признавались вовсе. Квазинаука может существовать только в отравленной политикой среде. Поэтому по отношению к мировой науке советская наука 30 – 50-х годов стала своеобразной «альтернативной наукой». Но так, впрочем, считали лишь советские ученые. Для мирового же научного сообщества подобная наука расценивалась не иначе, как антинаука [309]. Это и есть советская притащенная наука – объект нашего внимания в этой книге.
Рассмотрим теперь более внимательно сам механизм обезмысливания науки. Заметим, кстати, что данный исторический отрезок бытия нашей национальной науки в некотором смысле является определяющим и для нашего времени, ибо страх, самодовлевший в 30 – 50-х годах, впоследствии мимикрировал в откровенный цинизм, а полностью выкорчеванные традиции гуманитарного воспитания привели к тому, что общий культурный уровень общества был не только ниже всякой критики, но являлся скорее «величиной отрицательной», ибо традиционно гуманистическую русскую культуру вытеснили партийные науки [310].
Если в 20-х годах рабфаковцев обучали еще остатки «бур-жуазных ученых», то уже в конце 40-х годов все командные посты в науке заняли эти бывшие рабфаковцы, а в 50 – 60-х годах – их ученики. Готовить же они могли только себе подобных. Так что с наступлением хрущевской «оттепели» откровенный маразм периода взбесившегося ленинизма лишь сменился не менее откровенным цинизмом, который впоследствии только окреп.
Итак, отсечение мысли привело к тому, что советская притащенная наука на долгие десятилетия стала обезмысленной. Это не означает, что в те годы не было крупных научных достижений. Они были, разумеется. Но, во-первых, КПД научного поиска стал чрезвычайно низким; во-вторых, научными открытиями могли похвастаться лишь те ученые, чья вотчина была практически недосягаемой для большевистской идеологии, и более того, в их науке власти даже нуждались; наконец, в-третьих, любой властный гнет не в состоянии истребить тягу человека к неизведанному, и как бы не тщились власти подчинить себе свободную научную мысль, до конца им это сделать не удалось.
Мера обезмысливания науки менялась в широком диапазоне: от полной ее стерилизации, что случилось с философией, до сохранения в неприкосновенности почти всего перечня научных направлений (математика). Кувалда, с помощью которой выбивалась мысль из науки, – марксистско-ленинская философия. Она легко разбивала науки гуманитарные, ибо они не имели жесткого (независимого от идеологии) теоретического каркаса, и отскакивала от теоретически развитых естественнонаучных дисциплин, истины которых были много прочнее идеологической фразеологии.
Однако идеологический диктат, выражавшийся, в частности, в запретах на работу в той или иной области знания, в зачислении многих из них в категорию «лженаук» привел к тому, что и в легально существовавших, так сказать классических, науках типа физики, химии или геологии ученые работали под дамокловым мечом идеологических ограничений. Они уже не могли доверять фактам, а тем более свободно их интерпретировать. С интерпретацией недолго было залететь в болото метафизики или – и того страшнее – в трясину идеализма. А это уже пахло отлучением от науки и можно было угодить в ГУЛАГ. Поэтому хотя наука в те годы и продолжала жить, но жизнь эта была убогой, а добываемое новое знание непременно подавалось в диалектической облатке, раскусывать которую хотелось далеко не каждому.
Так происходила вынужденная кастрация науки. Жрецы из партийного аппарата давали лишь самые общие, туманные, но оттого еще более страшные указания: что полезно трудовому народу, а что пойдет ему во вред. Предметным их наполнением занималась научная номенклатура. А она, как известно, не столько печется о самой науке, сколько о своем тепленьком и доходном месте при ней. Поэтому она отсекала целые научные направления, резала по-живому, чтобы – упаси боже – не оказаться под указующим перстом Верховного жреца.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на ""Притащенная" наука"
Книги похожие на ""Притащенная" наука" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Сергей Романовский - "Притащенная" наука"
Отзывы читателей о книге ""Притащенная" наука", комментарии и мнения людей о произведении.