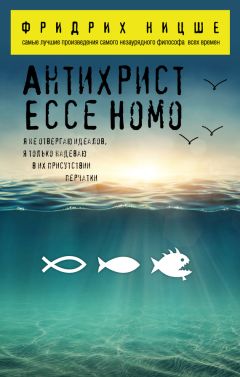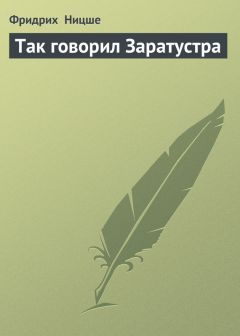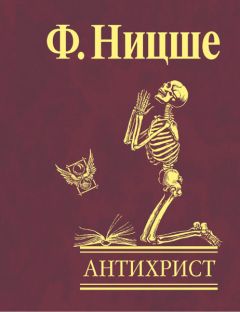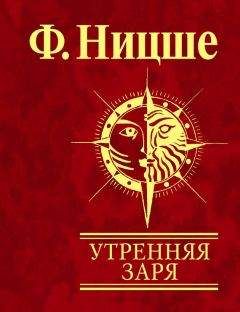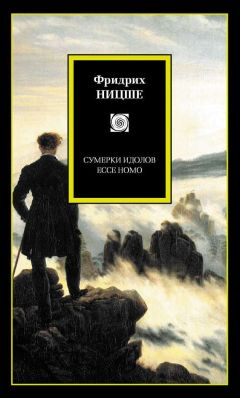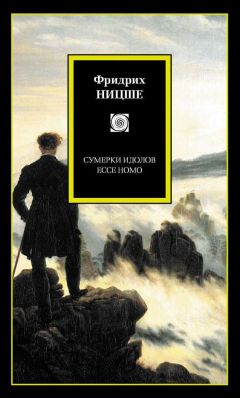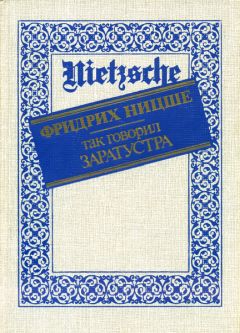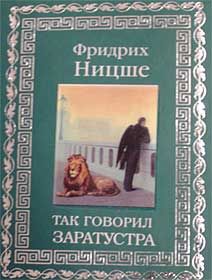Фридрих Ницше - Так говорил Заратустра
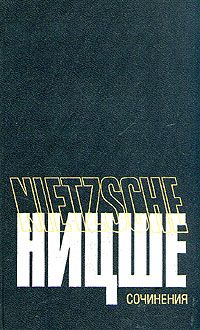
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Так говорил Заратустра"
Описание и краткое содержание "Так говорил Заратустра" читать бесплатно онлайн.
«Так говорил Заратустра» — самое известное из творений Фридриха Ницше, не в малой степени обеспечившее его славу. Это страшное, талантливое и высокое произведение, посвящённое становлению «истинного сверхчеловека» — такого, каким представлял его себе сам философ в начале прошлого столетия. Со многими постулатами книги сейчас согласиться уже невозможно. Однако поэтический гений Ницше по-прежнему поражает воображение читателя…
Но сам Заратустра, оглушённый и поражённый, поднялся с места своего, оглянулся с удивлением, вопрошая сердце своё, подумал и остался один. «Что слышал я? — сказал он наконец медленно. — Что сейчас произошло со мною?»
И вот воспоминание вернулось к нему, и он сразу понял всё, что произошло между вчера и сегодня. «Вот камень, — сказал он, гладя себе бороду, — на нём вчера утром сидел я; а здесь приходил прорицатель ко мне, здесь впервые услыхал я крик, только что слышанный мною, великий крик о помощи.
О высшие люди, это о помощи вам говорил мне вчера утром старый прорицатель, —
— помощью вам хотел он соблазнить и искусить меня: о Заратустра, — говорил он мне, — я иду, чтобы ввести тебя в твой последний грех.
В мой последний грех? — воскликнул Заратустра, гневно смеясь над своим собственным словом. — Что же было оставлено мне как мой последний грех?»
— И ещё раз погрузился Заратустра в себя, опять сел на большой камень и предался мыслям. Вдруг он вскочил. —
«Сострадание! Сострадание к высшему человеку! — воскликнул он, и лицо его стало, как медь. — Ну что ж! Этому — было своё время!
Моё страдание и моё сострадание — ну что ж! Разве к счастью стремлюсь я? Я ищу своего дела!
И вот! Лев пришёл, дети мои близко, Заратустра созрел, час мой пришёл. —
Это моё утро, брезжит мой день: вставай же, вставай, великий полдень!» —
Так говорил Заратустра и покинул пещеру свою, сияющий и сильный, как утреннее солнце, подымающееся из-за тёмных гор.
Примечания
{1}
Непосредственная предыстория этой книги — своего рода ницшевской Библии, по отношению к которой все до и после написанные им сочинения должны были котироваться жанром эксегетической литературы, — падает на начало 80-х гг., а точнее, на промежуток времени от августа 1881 до января 1883 г., когда, по позднему признанию Ницше, на него снизошли два «видения»: сначала мысль о «вечном возвращении» (ср. прим. к аф. 341 «Весёлой науки»), а потом и образ самого Заратустры (см. стихотворение «Сильс-Мария» в заключающем «Весёлую науку» стихотворном цикле «Песни принца Фогельфрай»). Дальнейшая хронология написания книги представляет собою совершенный образец чисто штурмового вдохновения, столь же вдохновенно описанного Ницше в «Ecce Homo» и сравнимого разве что с дионисической бурей последней сознательной — по меньшей мере, клинически сознательной — осени 1888 г., когда одно за другим и уже в необратимом crescendo духовного перенапряжения были написаны так называемые Werke des Zusammenbruchs, произведения периода катастрофы (выражение Э. Ф. Подаха). Книга создавалась урывками, но в необыкновенно короткие сроки: фактически чистое время написания первых трёх частей заняло не больше месяца, по десять дней на каждую, так что окончательный календарь выглядит следующим образом:
1–10 февраля 1883 г. в Рапалло: 1-я часть; вышла в свет в июне того же года в лейпцигском издательстве Шмейцнера.
26 июня — 6 июля 1883 г. в Рапалло: 2-я часть; вышла в свет в сентябре в том же издательстве.
8–20 января 1884 г. в Сильс-Мария: 3-я часть; вышла в свет в марте там же.
Последняя, 4-я часть была написана в Ницце в январе—феврале 1885 г. и вышла в свет в апреле того же года в издательстве Наумана в количестве 40 экземпляров, предназначенных только для узкого круга знакомых. Речь шла, по мнению автора, о чересчур личных и интимных аллюзиях, своего рода литературной расправе с рядом чисто автобиографических комплексов, чтобы можно было рассчитывать на публикацию в обычном смысле; «книга для всех и ни для кого» выглядела в этом срезе: «только для моих друзей, но не для опубликования», причём из имеющихся сорока раздарены были только семь экземпляров. Характерно, что в «Ecce Homo» об этой части вообще нет речи, так что можно принять за авторизованный вариант книги только первые три части, тем более что четвёртая часть была впервые включена в корпус книги лишь в 1892 г., стало быть, уже без ведома Ницше.
Отношение Ницше к этой книге было исключительным. Именно с неё начинается резкий сдвиг его в сторону самоосознания в себе человека рока — тот небывало катастрофический и гипертрофированно эсхатологический темп переживаний, который и определит всё своеобразие феномена «Ницше». В ретроспективном осмыслении собственного творчества окажется, что само «собрание сочинений» делится надвое по признаку: комментарии «до» и комментарии «после»; «я открыл мой “Новый свет”, о котором ещё не знал никто, — гласит письмо к Ф. Овербеку от 6 декабря 1883 г., — теперь, конечно, мне следует шаг за шагом завоёвывать его» (Br. 6, 460). В этом смысле значимость «Заратустры» органически вытекает из всего корпуса ницшеаны; было бы столь же рискованной, сколь и неадекватной затеей подвергать эту необыкновенную философскую поэму, в которой богине Музыке таки вздумалось говорить не тонами, а словами, привычным процедурам аналитической вивисекции; музыкальность и, значит, органическая неприкосновенность её очевидны до такой степени, что позволительно было бы решиться на вполне естественный парадокс: эта книга взывает не столько к осмыслению головой, сколько к переживанию в душе, которое единственно и способно сложиться в некий орган восприятия, необходимый для осмысления всех прочих книг Ницше, хотя бы они и слыли, по мнению автора, «комментариями». Иначе, речь идёт о книге, ставящей перед читателем странное условие: понимать не её, а ею, т. е. о книге, самый падеж которой в ряду прочих книг Ницше оказывается не винительным, а творительным, — парадокс, естественность которого бросается в глаза, стоит только вспомнить, что имеешь дело с музыкой («симфонией», как означил её сам автор), той самой музыкой, волшебная непонятность которой оттого и сохраняет силу, что оказывается самопервейшим условием понятности всего-что-не-музыка.
Отсюда необыкновенно вырастает значимсть иного пласта понимания: языка и стиля «Заратустры». «Мне кажется, — писал Ницше Э. Роде 22 февраля 1884 г., — что этим Заратустрой я довёл немецкий язык до совершенства. Дело шло о том, чтобы сделать после Лютера и Гёте ещё и третий шаг; посуди же, старый сердечный друг, соприкасались ли уже в нашем языке столь тесным образом сила, гибкость и благозвучие. Прочти Гёте после какой-либо страницы моей книги — и Ты почувствуешь, что та “волнообразность”, которая была свойственна Гёте, как живописцу, не осталась чуждой и художнику языка. Я превосхожу его более строгой, более мужественной линией, без того однако, чтобы впасть с Лютером в хамство. Мой стиль — танец; игра симметрий всякого рода и в то же время перескоки и высмеивание этих симметрий — вплоть до выбора гласных» (Br. 6, 479). Читатель, знакомый с оригиналом, сразу же согласится, что перевод «Заратустры» — вещь весьма условная. Это настоящая сатурналия языка, стало быть, языка не общезначимого, не присмирённого в рефлексии, а сплошь контрабандного, стихийного и оттого безраздельно тождественного со своей стихией. Современной лингвистике логистического или соссюрианского изготовления, сконструированной на языковых парадигмах типа: «Иван — человек, а Жучка — собака» или «Вальтер Скотт — автор Веверлея», нечего делать с этим языком; он для неё навсегда останется исключением из правила. Может быть, лучше всего охарактеризовало бы его то именно, что не подлежит в нём переводу, его непереводимость, именно, трёхступенчатая непереводимость; не переводится здесь:
1. Лексико-семантический слой. Бесконечные неологизмы, игра слов, охота за корнесловием, мстительные подоплёки смысловых обертонов, заумь; богатство ницшевского словаря поражает, но ещё больше поражает то, что можно было бы назвать здесь, по аналогии с организмической концепцией Ганса Дриша, феноменом лингвистической эквипотенциальности, когда членимое слово оборачивается рядом новых и столь же цельных слов. Я приведу случайные примеры, напоминая, что количество их неисчислимо: Erfolg-folgen-verfolgen; Brecher-Verbrecher; Sucher-Versucher; aufrecht-aufrichtig; faul-faulig-Faulheit-Faultier. Феномен настолько яркий и постраничный, что временами впадаешь в странную иллюзию, как если бы автор пользовался… Словарём Даля; во всяком случае от хвалёной или поносимой регулярности и застёгнутости немецкого языка здесь не остаётся и следа; Андрей Белый, отметивший в своё время, что «только у Фридриха Ницше ритм прозы звучит с гоголевскою силой» (Белый А. Мастерство Гоголя. М.; Л., 1934. С. 227), разоблачил источник названной иллюзии: может быть, именно автору «Вечеров на хуторе близ Диканьки» и «Страшной мести» удалось бы, работая над материалом немецкого языка, сотворить подобие «Заратустры».
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Так говорил Заратустра"
Книги похожие на "Так говорил Заратустра" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Фридрих Ницше - Так говорил Заратустра"
Отзывы читателей о книге "Так говорил Заратустра", комментарии и мнения людей о произведении.