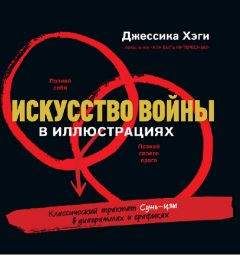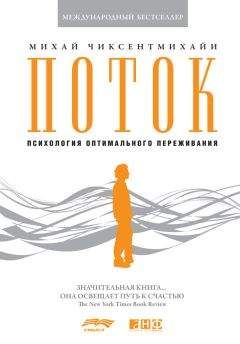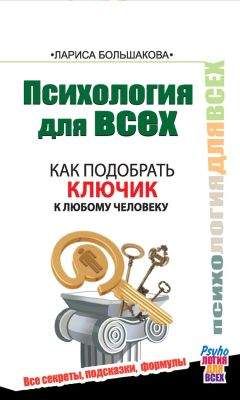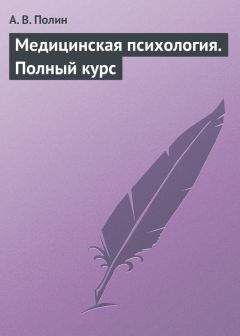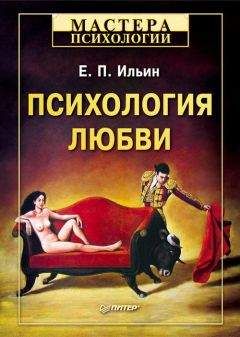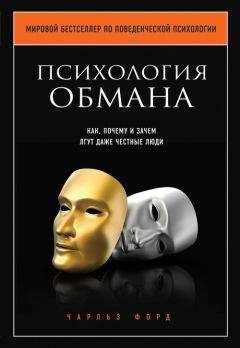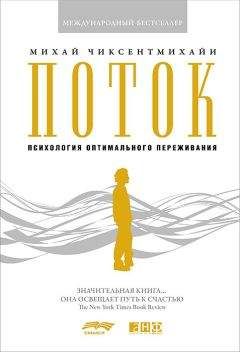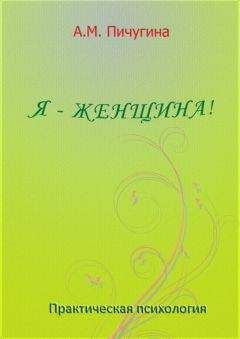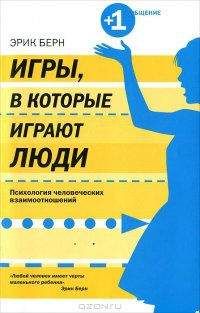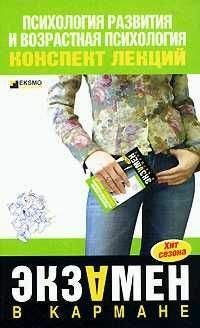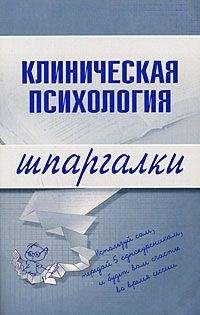Елена Сенявская - Психология войны в XX веке - исторический опыт России
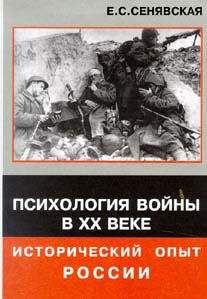
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Психология войны в XX веке - исторический опыт России"
Описание и краткое содержание "Психология войны в XX веке - исторический опыт России" читать бесплатно онлайн.
В своей истории Россия пережила немало вооруженных конфликтов, но именно в XX столетии возникает массовый социально-психологический феномен «человека воюющего». О том, как это явление отразилось в народном сознании и повлияло на судьбу нескольких поколений наших соотечественников, рассказывает эта книга. Главная ее тема — человек в экстремальных условиях войны, его мысли, чувства, поведение. Психология боя и солдатский фатализм; героический порыв и паника; особенности фронтового быта; взаимоотношения рядового и офицерского состава; взаимодействие и соперничество родов войск; роль идеологии и пропаганды; символы и мифы войны; солдатские суеверия; формирование и эволюция образа врага; феномен участия женщин в боевых действиях, — вот далеко не полный перечень проблем, которые впервые в исторической литературе раскрываются на примере всех внешних войн нашей страны в XX веке — от русско-японской до Афганской. Книга основана на редких архивных документах, письмах, дневниках, воспоминаниях участников войн и материалах «устной истории». Она будет интересна не только специалистам, но и всем, кому небезразлична история Отечества. Эта книга — возвращение долга нашим предкам, солдатам и офицерам Русской Армии, незаслуженно забытым героям давних войн. Это — дань уважения и памяти фронтовому поколению Великой Отечественной, моему отцу и его боевым товарищам. Это — дань уважения участникам «малых войн», моим ровесникам и друзьям, воевавшим в Афганистане. Это — боль за тех мальчиков, что проливают сегодня кровь в «горячих точках», и за тех, кому только предстоит пройти через войну…
Июль 1915 г., Восточный фронт:
„Все пленные германские офицеры и нижние чины убежденно говорят, что Россия объявила войну и имеет завоевательные стремления, а офицеры, кроме того, уверяют, что русская армия была за две недели до объявления войны мобилизована“.[683]
Июль 1915 г., из письма немецкого офицера с французского фронта:
„Зачем, почему этот ад?! Душит злоба на тех, кто вызвал катастрофу. Я умолял перевести меня на английский фронт. Хочу упиться муками этого трижды проклятого народа. О, да, трижды, сто раз проклятого!!! Ибо они одни всему причиной. Они зажгли пожар“.[684]
Таким образом, психология „свой — чужой“ остается в силе: „Свой всегда прав, чужой всегда виноват“. Правда, обостряются отношения между союзниками в блоке центральных держав, но они всегда были довольно натянутыми. Образ врага претерпевает некоторые изменения на „бытовом“ уровне и сохраняется в прежнем виде на уровне „глобальном“: ни один народ не готов признать свою страну зачинщицей конфликта, он ищет и находит для нее оправдания — из патриотических чувств, национальной гордости или инстинкта самосохранения. Но пройдет еще немного времени — и усталость возьмет свое, недовольство перейдет в революционное брожение, ненависть масс перекинется с врага внешнего на „врага внутреннего“, обрушится на собственные правительства. Одна всемирная катастрофа повлечет за собой другую, не менее страшную, которая будет стоить человечеству еще большего числа жертв. А пока в перерыве между боями на Восточном фронте 23 декабря 1914 г. немецкий офицер записывает в своем дневнике:
„Мы теперь все устали от войны. Самая сокровенная наша мечта, о которой мы часто говорим, — это мир. Мирные переговоры для всех нас были бы избавлением от этого кошмара. Но куда ни посмотришь — нет выхода, нет надежды“.[685]
Впрочем, политиков не волнует, о чем думает „пушечное мясо“.
Итак, в сознании участников Первой мировой войны существовало два основных образа врага. Первый, „глобальный“, сформировавшийся под воздействием пропаганды, включал в себя представления о враждебном государстве или блоке государств; второй, „бытовой“, возникал в результате непосредственных контактов с лицами из противоположного лагеря военнопленными и интернированными, неприятельскими солдатами в бою и мирным населением оккупированных территорий. На изменение образа врага влияли такие факторы, как продолжительность войны, ход и характер боевых действий, победы и поражения, настроения на фронте и в тылу, причем, более „мобильным“ был именно второй образ. Что касается первого, то он закрепляется в сознании нескольких поколений, приобретая характер стойкого „послевоенного синдрома“.
Именно в период 1914–1918 гг. „рыцарский кодекс“ в соблюдении законов и обычаев войны постепенно уходит в прошлое, открывая дорогу оружию массового уничтожения, задавая зловещую „программу“ грядущим войнам XX века.
Вторая мировая война реализовала все наиболее страшные тенденции, заложенные в Первой, приобретя особое ожесточение в советско-германском противоборстве.
Образ врага в сознании участников Великой Отечественной войныКак и в Первой мировой войне, начало Великой Отечественной отличалось доминированием пропагандистских стереотипов в восприятии противника. Однако, принципиальным отличием на этот раз было то, что в смертельном противоборстве сошлись совершенно иные типы государств — два тоталитарных режима противоположных политических полюсов. Поэтому и роль идеологической составляющей в массовом общественном сознании, а значит, и в сознании армии, была на порядок выше. Советский солдат был воспитан в классовой пролетарской идеологии и через эту призму пытался воспринимать врага, вычленяя рабочего и крестьянина из общей массы врагов, отделяя их от „господ-эксплуататоров“. Но уже в первые дни войны рассеялись иллюзии, наивные надежды на сознательность „братьев по классу“, воспитанные в довоенное время и быстро вытравлявшиеся беспощадной реальностью. Вот что записал в своем фронтовом дневнике М. И. Березин:
„20 июля 1941 года поджигаем два танка, взяв в плен трех танкистов. Какими же мы были наивными человеколюбцами, пытаясь при их допросе добиться от них классовой солидарности. Нам казалось, что от наших бесед они прозреют и закричат: „Рот фронт!“ Мы хорошо знали произведения из времен Гражданской войны и совершенно не знали современного немца-фашиста. А они, нажравшись нашей каши из наших же котелков, накурившись из наших же добровольно подставленных кисетов, с наглой, ничего не выражающей рожей отрыгивают нам в лицо: „Хайль Гитлер!“ Кого мы хотели убедить в классовой солидарности — этих громил, поджигающих хаты, насильников и садистов, с губной гармошкой во рту убивающих женщин и детей? Мы стали понимать и с каждым днем боев все больше убеждаться, что только тогда фашист становится сознательным, когда его бьешь“.[686]
Как оказалось, с противной стороны тоже работала мощная идеология, но с иной направленностью. Она ориентировала не на классовую солидарность, а на немецкую исключительность, национально-расовое и государственное превосходство Германии. Советский официально-идеологический стереотип восприятия врага отразился и в пропаганде на войска противника, которая оказалась абсолютно неэффективной. Вот что говорил об этом в 1943 г., уже находясь в советском плену, немецкий фельдмаршал Ф. Паулюс:
„Ваша пропаганда в первые месяцы войны обращалась в своих листовках к немецким рабочим и крестьянам, одетым в солдатские шинели, призывала их складывать оружие и перебегать в Красную Армию. Я читал ваши листовки. Многие ли перешли к вам? Лишь кучка дезертиров. Предатели бывают в каждой армии, в том числе и в вашей. Это ни о чем не говорит и ничего не доказывает. И если хотите знать, кто сильнее всего поддерживает Гитлера, так это именно наши рабочие и крестьяне. Это они привели его к власти и провозгласили вождем нации. Это при нем люди из окраинных переулков, парвеню, стали новыми господами. Видно, в вашей теории о классовой борьбе не всегда сходятся концы с концами“.[687]
Классово-идеологические иллюзии рассеивались с каждым шагом врага в глубь советской территории. Война приобретала характер смертельной схватки за выживание, причем не только существовавшей системы и государства, но и населявших огромные пространства СССР народов. Война действительно становилась Отечественной и национально-освободительной. И образ врага-фашиста также все сильнее принимал национальную окраску, превращаясь в массовом сознании в образ врага-немца.
На этот феномен общественного сознания неоднократно обращал внимание Константин Симонов, очень чуткий к исторической правде. В одном из своих писем в 1963 г. он отмечает:
„Что касается фразеологии военного времени, то я думаю, что писатель должен употреблять ее без политиканства, употреблять исторически верно. Как тогда говорили — так и писать. Чаще всего тогда говорили „немцы“, говорили „немец“, говорили „он“. „Гитлеровцы“ больше писали в сводках и всяких официальных донесениях об уничтожении противника. „Фашист“, „фашисты“ говорили, и довольно часто, хотя, конечно, гораздо реже, чем „немец“ или „немцы“. В особенности часто говорили про авиацию: „Вон, фашист полетел“. Тут почему-то чаще говорили именно „фашист“, а не „немец““.[688]
Обращался К.Симонов к этому вопросу и позднее. В другом письме он пишет:
„По поводу упоминаний слов „фашисты“ и „немцы“ в романе „Живые и мертвые“. Я принципиальный противник того, чтобы вводить в книгу, написанную об одном времени, — фразеологию, взятую из другого времени. Это режет мне ухо. В моем романе люди говорят о немцах так, как мы говорили о них тогда, в разных случаях и в разных обстоятельствах называя их по-разному. И когда в романе немцы называются то „немцами“, то „фашистами“ — это реальный язык того времени“.[689]
В самом деле, два этих обозначения врага существовали как бы параллельно. Вот что писал родным 10 сентября 1941 г. из-под Ельни капитан П. М. Себелев:
„Красивая панорама наступления!.. Радостно было смотреть, как за передним краем взлетали фонтаны земли, клубы огня и дыма. Я говорю это как командир батальона, а как человек думаю о другом: чем грандиознее панорама боя, тем больше земля пропитывается человеческой кровью, тем больше материнских слез с обеих сторон, тем больше отцов, сжимающих кулаки. Мы знаем, что не все немцы — фашисты, но война есть война!“[690]
Разделение врага на „фашистов“ и „немцев“ по инерции продолжало существовать в начале войны, но по мере нарастания ее ожесточенности эти понятия в сознании народа все более сливались. Если в первую мировую представление о противнике прошло путь от образа „врага-зверя“ к образу „врага-человека“, то теперь все было наоборот: недавние „братья по классу“ превратились в „бешеных псов“, которых нужно убивать.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Психология войны в XX веке - исторический опыт России"
Книги похожие на "Психология войны в XX веке - исторический опыт России" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Елена Сенявская - Психология войны в XX веке - исторический опыт России"
Отзывы читателей о книге "Психология войны в XX веке - исторический опыт России", комментарии и мнения людей о произведении.