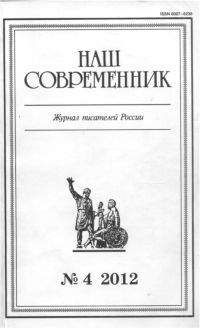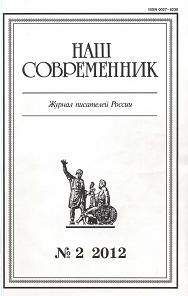Александр Етоев - Книгоедство
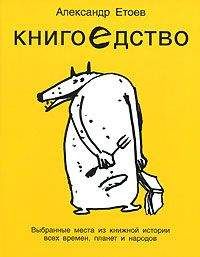
Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Книгоедство"
Описание и краткое содержание "Книгоедство" читать бесплатно онлайн.
«Я плохо и мало знаю Россию, т. к. уехал оттуда, когда мне было 16 лет; но Россия моя родина, и ни на каком другом языке, кроме русского, я не могу и не буду писать», – писал он Горькому из Парижа в 1930 году.
Прозу Газданова сравнивали с прозой Набокова (тогда Сирина) и Марселя Пруста.
Здесь позволю себе короткое отступление о так называемом сравнительном методе в литературной критике. Когда человеку, пишущему о книге, сказать о ней нечего, но сказать надо (за рецензии платят деньги), тогда он и прибегает к вышеупомянутому методу, т. е. начинает сравнивать книгу с произведениями уже существующими и как-то себя зарекомендовавшими. При этом, если критик сравнивает автора, например, с Прустом, самого Пруста критику знать вовсе не обязательно, про Пруста, его стиль, манеру и прочее написаны десятки исследований. Метод Пруста – метод импрессионистического письма, запись мгновенных впечатлений, и если у сравниваемого автора обнаруживается что-нибудь сходное, то критик смело напишет: «в манере Пруста». Причем достаточно расставить те или иные акценты, как статья (рецензия) становится или положительной или отрицательной: «в лучших традициях» такого-то (Пруста, Гоголя, Достоевского…) или «слепо следует манере» такого-то (список тот же).
На примере Газданова в очередной раз убеждаешься, что во все времена критика, даже благожелательная, необъективна.
Все, написанное словами, сопоставимо. И когда все активно стали искать истоки Гайзданова в Прусте, вдруг выяснилось, что Пруста тот не читал вообще. Конечно, опытный критик вывернется и начнет рассуждать о незримых течениях духа и неисповедимых путях искусства, по которым независимо от писателя одни и те же идеи перемещаются от автора к автору.
Но почему-то про самобытность начинают вспоминать лишь тогда, когда писатель лежит в могиле – под небом Франции ли, России, неважно какой страны.
Гайдар А.Мне Гайдар нравится – просто потому, что нравится, вот и все.
«Жил человек в лесу возле Синих гор», – разве плохой писатель может так начать книгу?
А все это «советское» – «несоветское», «наше» – «не наше» – дурость и блажь, и блажные дураки те, кто такое деление принимает. За хорошие книги, неважно, когда написанные – при советской власти, при несоветской, – стыдиться стыдно – извините за тавтологию.
Жизнь и творчество этого «писателя от природы» (определение мое. – А. Е.) было не таким уж безоблачным, как о нем писали в прежних гайдаровских биографиях. То есть, понятно – бои, контузии, в двадцать лет увольнение «в бессрочный отпуск» из Красной Армии, без которой сын комдива Гайдар жизни своей не мыслил, – одно это добавит всякому на лицо морщин.
Но были и другие печали, о которых в биографиях не рассказывали. А именно – цензурные ножницы, режущие по-живому художественную кожу произведения в зависимости от перемены климата.
Вот случай, о котором сообщает историк отечественной цензуры Арлен Блюм. Он сравнивает известный рассказ писателя «Голубая чашка» в варианте 1936 и 1940 года.
1936: «Есть в Германии город Дрезден, и вот из этого города убежал от фашистов один рабочий, еврей…»
1940: «Есть за границей какой-то город, и вот из этого города убежал один рабочий…»
1936: «“Дура, жидовка! – орет Пашка. – Чтоб ты в свою Германию обратно провалилась!” А Берта дуру по-русски хорошо понимает, а жидовку еще не понимает никак. Подходит она ко мне и спрашивает: “Это что такое жидовка?” А мне и сказать совестно. Подождал – и вижу: на глазах у нее слезы. Значит, сама догадалась… Я и думаю: “Ну погоди, приятель Санька, это тебе не Германия, с твоим-то фашизмом мы и сами справимся!”»
1940: «Дура, обманщица! Чтоб ты в свою заграницу обратно провалилась! А Берта по-русски хорошо понимает, а дуру и обманщицу еще не понимает никак. Подходит ко мне и спрашивает: „Это что такое дура?“ А мне и сказать совестно… Я и думаю: “Ну погоди, приятель Санька, с твоим-то буржуйством мы и сами справимся!”»
Все понятно: в 1936 году Германия была стране Советов врагом, а в 1940, после пакта Молотова – Риббентропа, стала лучшей ее подругой.
В послесловии к «правдинскому» изданию ранних повестей Гайдара (сборник «Лесные братья», М.: Правда, 1987) рассказывается история первых публикаций повести «Р.В.С.».
Когда в июне 1926 года повесть вышла в Госиздате, в Москве, Гайдар, прочитав напечатанное под его именем издание книги, отрекся от этого «сочинения», и его «отречение» тогда же напечатала «Правда». Вот оно:
Уважаемый товарищ редактор! Вчера я увидел свою книгу РВС – повесть для юношества. Эту книгу теперь я своей назвать не могу и не хочу. Она дополнена чьими-то отсебятинами, вставленными нравоучениями, и теперь в ней больше всего той самой «сопливой сусальности», полное отсутствие которой так восхваляли при приеме госиздатовские рецензенты. Слащавость, подделывание под пионера и фальш проглядывают на каждой ее странице. Обработанная таким образом книга – насмешка над детской литературой и издевательство над автором.
Арк. Голиков-Гайдар.
Прав был Александр Сергеевич, который нашу отечественную цензуру только с «дурой» и рифмовал.
ГеографияКажется, что может быть обыденнее и проще географической науки. Все белые пятна на карте мира уже давно закрашены в соответствующие цвета. Все дороги, реки, болота, моря, пустыни пронумерованы, классифицированы и внесены в реестр. Но вот открываю недавно в ЖЖ страницу Мирослава Немирова и там читаю:
Самая ‹…› река в Казахстане – это река Куланотпес («Кулан не пройдет»), которая впадает в озеро Тениз с юго-востока. Так как она со снеговым питанием, то после половодья уровень там сильно падает, но в озеро впадает река Нура с северо-востока, и, если у Нуры очень большой расход, то иногда, из-за малого уклона, река Куланотпес течет в обратную сторону.
Многоточием в угловых скобках я заскретил неприличное слово, но даже это нисколько не умаляет удивления от подобного сообщения! Река, текущая то вправо, то влево – это, согласитесь, не слабо!
А как вам нравится озеро, которое перемещается, меняя свое расположение каждые три года, так что нет никакой возможности изобразить его на географической карте? Вот сообщение Екатерины Таратуты на эту тему: «Оно (это озеро. – А. Е.) велико, но лодки по нему не ходят, потому что его вода такова, что пропитывает любую лодку в считанные минуты, как ее ни смоли. Пить эту воду нельзя, и тот, кто хочет не умереть в тех краях от жажды, должен уметь проглатывать лошадиную кровь». Добавлю для любознательных, что государство, где находится это озеро, называется Крорайна, или Кроран, части же его называются Чалмадана, Нина и Сача.
Да что далеко ходить! Буквально у нас под боком, в России, между станцией Кушавера и деревней Дворищи Хвойнинского района Новгородской области (или губернии? как там нынче делится территория?) есть такое озеро Светлое, которое раз в году проваливается в подземную щель и появляется в трех километрах к северу, возле поселка Прядино. Здесь его называют Мутным. Вместе с озером уходит вся рыба, и, говорят, был однажды случай, когда заснувший в лодке рыбак проснулся, причалил к берегу и не нашел дорогу домой. Потому что заснул на Светлом, а пробудился уже на Мутном.
Вот такие чудеса и открытия случаются еще в географии, если вы, конечно, интересуетесь в жизни чем-то большим, чем телевизор.
Герман Ю.Писателя Юрия Германа интеллигенция 30-х годов сильно невзлюбила за то, что он написал сборник рассказов про железного Феликса. Его прозвали после этого то ли «певцом ЧК», то ли «чекистским подпевалой», не помню точно.
У меня были две книги этих рассказов в детлитовском довоенном издании с забавными картинками, опять же – забыл кого. На одной иллюстрации была изображена Каплан, которую схватили чекисты сразу после выстрела в Ленина, – замечательная картинка, особенно удался оскал на лице эсеровской террористки.
Обе книжки я подарил современному эмигрантскому писателю номер один Андрею Куркову, который в то время собирал любые книги о Ленине и называл свое увлечение «моя лениниана».
Бог с ним, с Курковым, вернемся к Герману. Его книги написаны очень стильно, это действительно хорошие книги. И «Один год», и трилогия о докторе Устименко, и повести предвоенных лет.
В дневниковых записях Евгения Шварца много говорится про Германа.
3-4 февраля 1946 г.: «…А в двенадцать приехал Юра Герман. Он прочел за ужином отрывок из своего романа. Интересно, весело, уютно, в меру точно, в меру мягко…».
27-28 апреля 1946 г.: «…Он умеет создавать в своих вещах (как и Каверин) уютную, как бы диккенсовскую обстановку. Только у Германа она ближе к жизни, и люди сложней, и любовь не столь пасторальная…».
А вот про личные отношения – запись 3 ноября 1953 г.: «…Друзьями не были мы никогда. Я в свое время, еще до войны, испугался некоторых не темных, а уж слишком ясных его черт, и мне с тех пор с ним неловко. Он обладает тем бесстыдным бешенством желания, которое украшает мужчину, когда дело касается женщины, и уродует, когда вопрос идет о собачьей чуши. Все позволено в любви и на войне. Возможно. Но есть еще и мир. Он талантлив. С ним не скучно. В Москве было даже весело. Но, увы, мне с ним неловко».
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Книгоедство"
Книги похожие на "Книгоедство" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Александр Етоев - Книгоедство"
Отзывы читателей о книге "Книгоедство", комментарии и мнения людей о произведении.