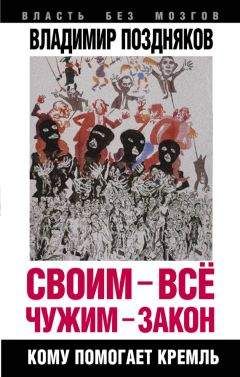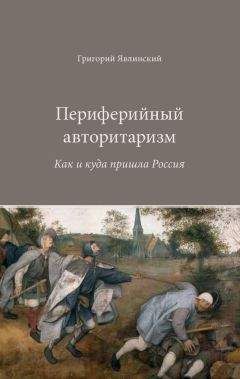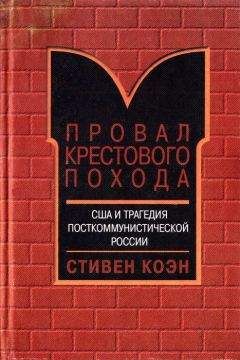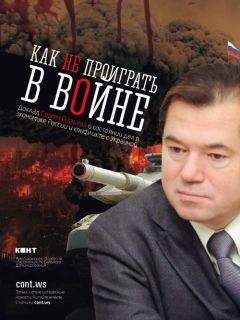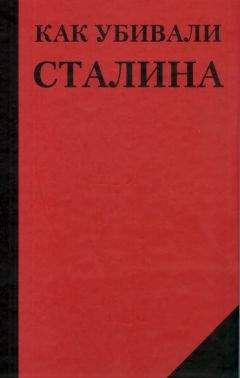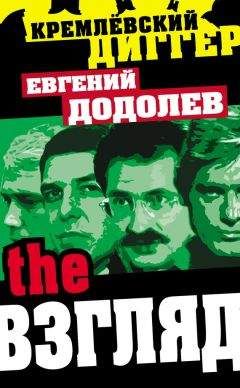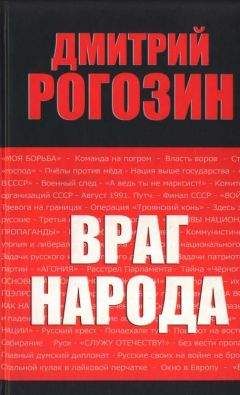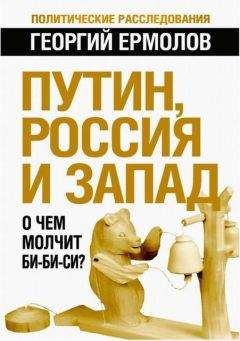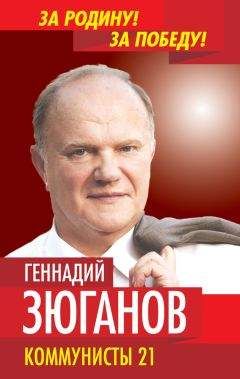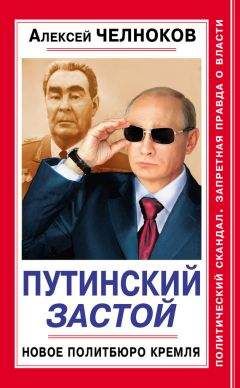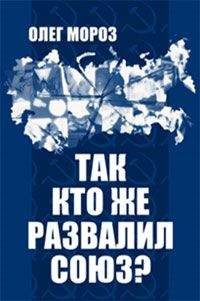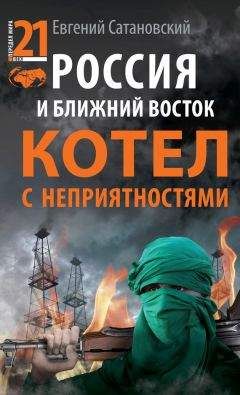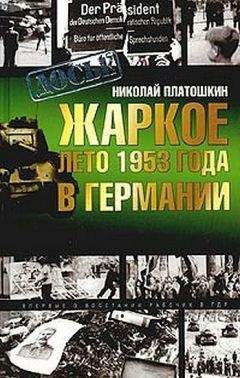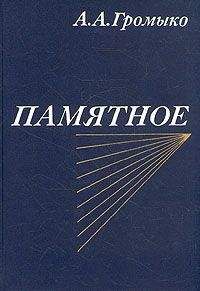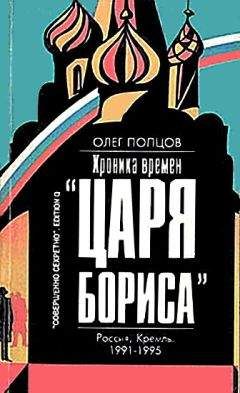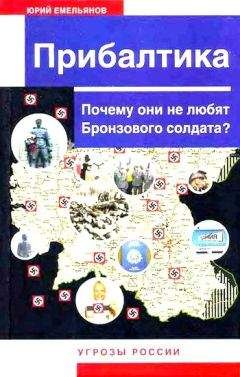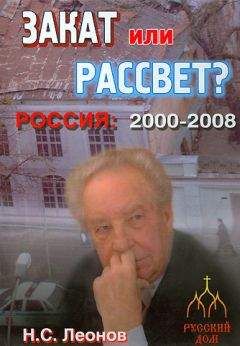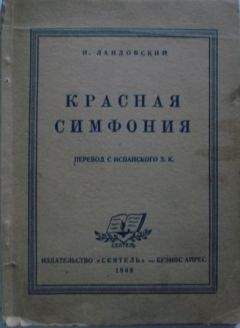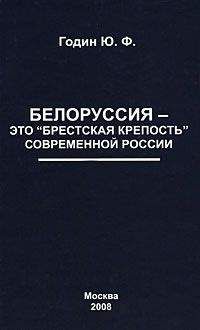Георгий Вачнадзе - Секреты прессы при Гобачеве и Ельцине
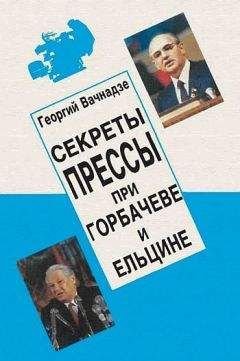
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Секреты прессы при Гобачеве и Ельцине"
Описание и краткое содержание "Секреты прессы при Гобачеве и Ельцине" читать бесплатно онлайн.
Данная книга издана по инициативе ЮНЕСКО во Франции и Германии, США и Испании, а теперь пришла и к русскому читателю.
Автор ее был профессиональным журналистом ТАСС и АПН, ныне — доктор исторических наук, сотрудник Института социальнополитических исследований Российской Академии наук.
Тема его очередного журналистского расследования — показ того, как и почему развалился Советский Союз, под влиянием лжи телевидения и газет по поводу Чернобыля и Афганистана, Тбилиси и Вильнюса, Фороса и Кремля.
Появление в независимой России свободной прессы и частных школьных учебников, доступ к архивам и компьютерным сетям, рождение кабельного телевидения и независимых телестудий ликвидировали монополию государства на информацию.
Журналисты перестают быть хроническими лгунами и провокаторами — как считает автор книги, это дает нам надежду.
При Суслове цензура взяток не брала
А что бы мы хотели читать? Не догадываетесь? Да достаточно взять каталог новинок за последние 5 лет любого из западных издательств, печатающих книги на русском языке. О бестселлерах западной литературы я уже не говорю — нас десятилетиями «кормили» романами «прогрессивных» писателей Азии, Африки и Латинской Америки, а также опусами руководителей писательских союзов «братских социалистических стран». Прежде чем тянуться к западным авторитетам, нам бы своих услышать. Вот в каких выражениях начинает свою статью «Подвиг Василия Гроссмана» автор американской газеты «Новое русское слово» (15.10.1990) Мария Шнеерсон:
«Нынешний год — год круглых дат в жизни и судьбе Василия Семеновича Гроссмана. В 1990 году он мог бы отметить свое восьмидесятипятилетие. В 1990 году исполняется сорок лет с того дня, когда он приступил к созданию романа „Жизнь и судьба“; тридцать пять лет — с начала работы над повестью „Все течет“; тридцать лет — со времени окончания романа; двадцать лет — со времени выхода в свет повести „Все течет“ на Западе (изд. „Посев“); десять лет со дня первой публикации в Женеве „Жизни и судьбы“.
В 1990 году роман наконец-то напечатан без купюр, по рукописи, в которой сделана последняя авторская правка (Москва, „Книжная палата“, 1990). Это уже четвертое издание „Жизни и судьбы“ на родине писателя, если считать журнальную публикацию в „Октябре“, подвергшуюся значительным цензурным сокращениям (несколько позднее в „Октябре“ же опубликована и повесть „Все течет“).
Перечисленные даты сами по себе говорят о многом: о том, в какую страшную пору приступил писатель к созданию своей Главной книги; о том, что почти одновременно с нею создавалась повесть „Все течет“, где историософская и художественная концепция Гроссмана обнажены с предельной откровенностью; о том, что оба эти произведения долгие годы лежали в тайниках, хранимые друзьями писателя, прежде чем появились на Западе. На родине Гроссмана они смогли быть обнародованы лишь в общем потоке реабилитированных книг.
Судьба главной книги Гроссмана столь же уникальна, как и само это произведение. Заканчивая его, автор писал своему другу — поэту Семену Липкину, одному из тех, кто спас рукопись „Жизни и судьбы“: „Она осуществит себя помимо меня, раздельно от меня, меня уже может не быть“.
В феврале 1961 года у писателя произвели обыски, арестовали рукопись романа. Через год, видимо, под впечатлением XXII съезда, Гроссман обратился с письмом к Хрущеву. Там есть потрясающие строки: „Нет смысла, нет правды в (…) моей физической свободе, когда книга, которой я отдал свою жизнь, находится в тюрьме, ведь я ее написал, ведь я не отрекался и не отрекаюсь от нее (…). Я по-прежнему считаю, что написал правду, что писал я ее, любя и жалея людей, веря в людей. Я прошу свободы моей книге“.
Ответом на письмо явилась встреча с Сусловым, который заявил: „… публикация этого произведения нанесет вред коммунизму, советской власти, советскому народу“. Даже вернуть рукопись автору советский идеолог счел опасным. Роман же, заключил он, если и будет когда-нибудь опубликован, то не ранее, чем через 200–300 лет: Суслов мнил, что его держава простоит века!
… По иронии судьбы через несколько лет клевреты Брежнева арестуют мемуары Хрущева: гонителю Гроссмана пришлось пережить то, на что он обрек одну из своих жертв (впрочем, масштабы тут, конечно, несоизмеримы!).
Трагическая участь романа века, каким поистине является „Жизнь и судьба“, стала не только личной трагедией автора. Прочитав „Жизнь и судьбу“ в октябре 1960 года, А.Твардовский был глубоко потрясен столь „необычным по силе искренности и правдивости произведением“. Он записал в дневнике: „Напечатать эту вещь (…) означало бы новый этап в литературе, возвращение ей подлинного значения правдивого свидетельства о жизни — означало бы огромный поворот во всей нашей зашедшей Бог весть в какие дебри лжи, условности и дубовой преднамеренности литературы. Но вряд ли это мыслимо“.
Наивно было бы сейчас гадать, как могла повлиять „Жизнь и судьба“ на развитие литературного процесса. Публикация этого произведения была абсолютно невозможной. Ведь „Жизнь и судьба“ касается не только темы лагерей и репрессий. В романе проводится откровенная параллель между национал-социалистическим и коммунистическим вариантами фашизма; обнажаются пороки тоталитарного строя, по самой сути своей враждебного человеческой личности. Гроссман создает картину растленного общества, парализованного страхом: пригвождает к позорному столбу представителей „нового класса“: рисует драматические сцены уничтожения крестьянства в пору коллективизации. В этой великой книге ставятся кардинальные философские вопросы, и решение их не имеет ничего общего с марксистской идеологией. „Жизнь и судьба“ создана рукою гениального мастера, мыслителя, исследователя и провидца. Суслов был прав: советскому строю она наносит сокрушительный удар.
„Это из тех книг, — писал Твардовский, — по прочтении которых чувствуешь день за днем, что что-то в тебе и с тобой совершилось серьезное, что это какой-то этап в развитии твоего сознания“. Но роман увидел свет на родине писателя лишь тогда, когда уже многое было открыто и пережито. Читатель восьмидесятых годов, впервые с ним знакомясь, не мог испытать того, что испытал Твардовский в шестидесятом году.
Значит ли это, что роман Гроссмана появился слишком поздно и для наших дней устарел? Конечно, нет! Есть книги-однодневки, книги, где отражена лишь злоба дня. Они перестают волновать последующие поколения, даже если написаны талантливо. И есть книги, созданные на века, ибо в них, наряду со злобой дня, звучат вневременные, общечеловеческие темы, живут созданные мастерами бессмертные типы. „Жизнь и судьба“ принадлежит к числу именно таких произведений искусства.
Размышляя о романе Гроссмана, нельзя забывать, когда, в каких условиях он рождался. Самое создание его явилось подвигом, совершить который мог лишь человек редкой духовной силы.
Когда думаешь о подвиге Гроссмана, невольно вспоминаешь подвиг Солженицына. Дело не в том, конечно, чей гений выше, чей подвиг значительнее. Гроссману не суждено было сыграть такую роль, которую играл и играет Солженицын в литературной и общественной жизни нашего времени. Оба писателя шли к правде разными путями. Но в чем-то их судьбы и творения перекликаются.
В те годы, когда Гроссман писал „Жизнь и судьбу“, „подпольный писатель“ Солженицын начал работать над романом „В круге первом“, создал повесть „Щ-54“ („Один день Ивана Денисовича“); в те же годы были задуманы „Раковый корпус“ и „Архипелаг ГУЛАГ“. И если вглядеться в создаваемое одновременно обоими писателями, поразит сходство мотивов, тем, трактовки явлений, при всем глубоком различии творческой индивидуальности, миросозерцания, общественного темперамента.
Жизнь и судьба обоих писателей сложилась по-разному. Солженицын, который в начале своей деятельности, будучи „подпольным писателем“, обрекал себя на „пожизненное молчание“, вскоре заговорил громовым голосом и услышан был во всем мире. Молчание на долгие годы и после смерти стало уделом Гроссмана. Но судьба его заставляет вспомнить слова Солженицына. В пору „подпольного писательства“ автор „Ивана Денисовича“ был убежден, что не он один работает в подполье. „Что десятков несколько нас таких — замкнутых упорных одиночек, рассыпанных по Руси, и каждый пишет по чести и совести то, что знает о нашем времени и что есть главная правда (…). А вот придет пора — и все мы разом выступим из глуби моря, как Тридцать Три богатыря, — и так восстановится великая наша литература“. Солженицын думал, однако, что „это лишь посмертный символ будет (…). Что это будут лишь наши книги, сохраненные верностью и хитростью друзей, а не сами мы, не наши тела: сами мы прежде того умрем“. К великому счастью, по отношению к себе Солженицын ошибался. По отношению к Гроссману пророчество его сбылось…»
Книги Гроссмана и Солженицына, Сахарова и Пастернака надо было изучать в советской школе. Но нам это пока не грозит, так как труды этих великих сынов нашего отечества недоступны народу так же, как и Библия. Последняя продается по цене не менее половины средней месячной пенсий. Такие же огромные деньги надо выкладывать на черном рынке за любой том вышепоименованных писателей. О Сахарове речь не идет — основные книги его жизни, в том числе и его изданные во всем мире мемуары, отдельными изданиями в СССР не выходили. Негласный запрет упоминать в советской прессе и на телевидении имя Андрея Дмитриевича Сахарова существовал в течение трехчетырех лет после освобождения в 1986 году этого Нобелевского лауреата из семилетней ссылки в Горьком. Только после смерти академика Сахарова в декабре 1989 года советские газеты оказались полны ссылок на его фамилию, но при жизни он ни разу не удостоился про странного интервью ни в советской официальной прессе, ни тем более на Центральном телевидении.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Секреты прессы при Гобачеве и Ельцине"
Книги похожие на "Секреты прессы при Гобачеве и Ельцине" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Георгий Вачнадзе - Секреты прессы при Гобачеве и Ельцине"
Отзывы читателей о книге "Секреты прессы при Гобачеве и Ельцине", комментарии и мнения людей о произведении.