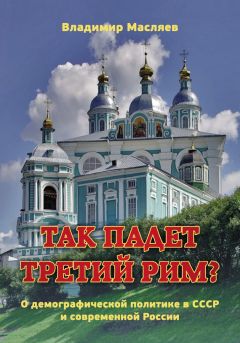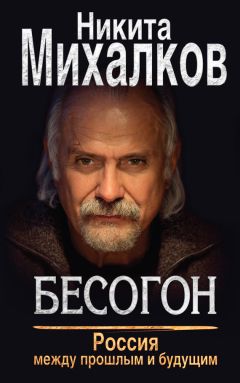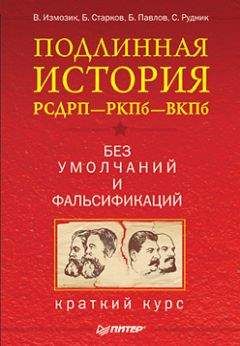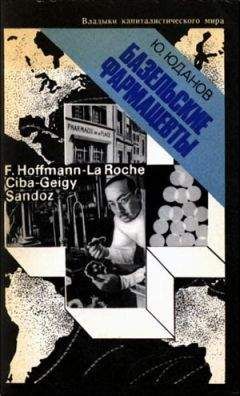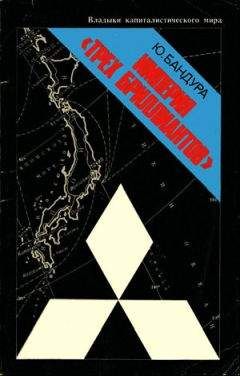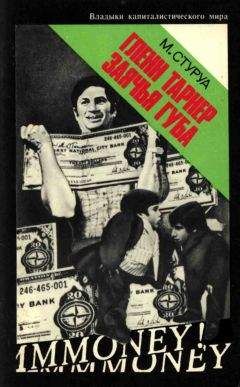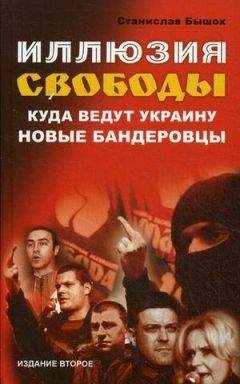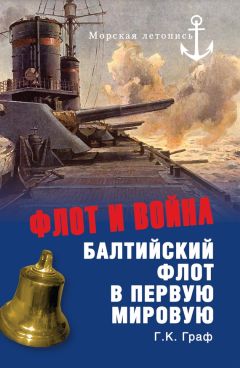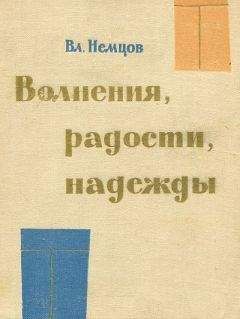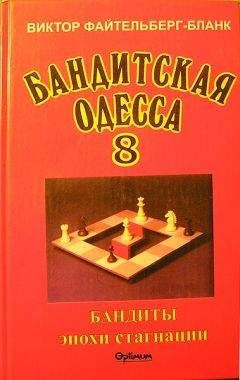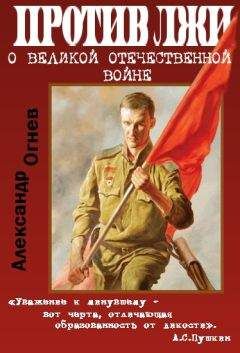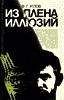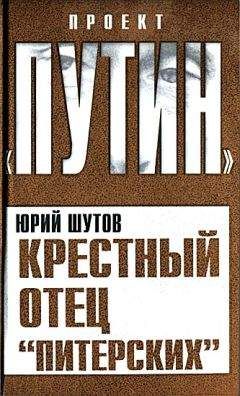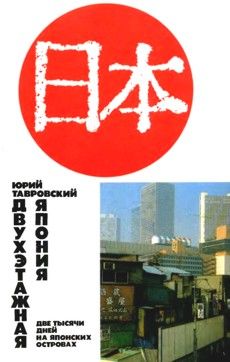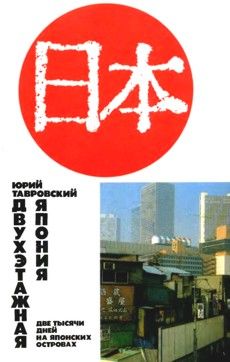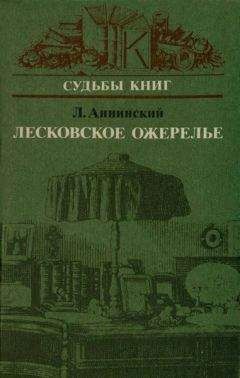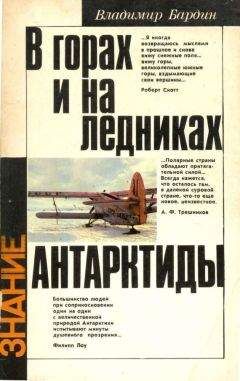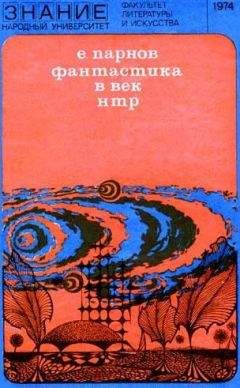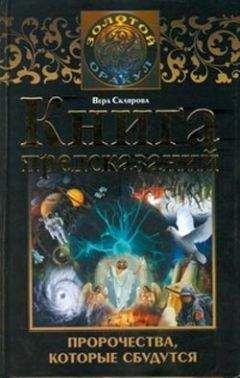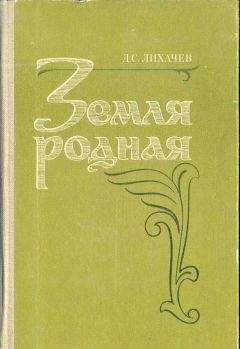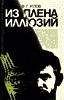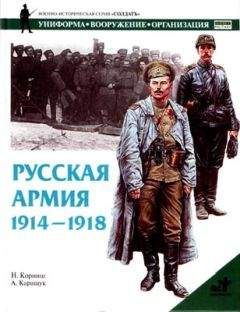Федор Нестеров - Связь времен
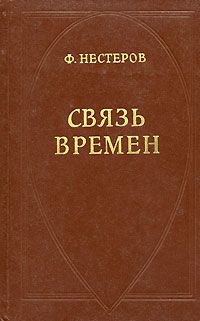
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Связь времен"
Описание и краткое содержание "Связь времен" читать бесплатно онлайн.
Книга кандидата филологических наук, вызвавшая интерес читателей и удостоенная в 1981 году первой премии и диплома первой степени на Всесоюзном конкурсе общества «Знание» на лучшее произведение научно-популярной литературы, раскрывает своеобразие исторического пути нашей страны — родины Октября. Автор рассказывает о тех нитях, которые связывают настоящее с прошлым, показывает, почему история становится ныне ареной острых идеологических боев. Книга написана в публицистической манере и рассчитана на широкие круги читателей.
Самозванство обычно в историографии трактуется как характерная черта русских крестьянских движений. Нам представляется более верным переставить логическое ударение на слово русских крестьянских движений. На Западе если в крестьянских войнах и появлялся иной раз самозванец, то крайне редко, и его «титул» в агитации существенной роли не играл. Но то, что там оказывалось исключением, здесь было правилом: ни одно крупное восстание угнетенных трудовых масс не обходилось без своего «царя» или, на худой конец, «царевича». Так, только на последнюю треть XVIII века приходится появление 23 самозванцев, не считая Пугачева [20]. Там между повстанцами и охранителями феодального порядка всегда оставались достаточно широкие социальные слои, колеблющиеся между двумя лагерями, нейтральные, а то и просто равнодушные к не задевающей их непосредственно борьбе. Здесь повстанцы, требуя от всех и каждого присяги своему «законному государю», ставили вопрос ребром: «Кто не с нами, тот против нас!» Присяга «царю» предполагала и службу ему «по-московски», то есть безоговорочную и безусловную, а те, кто отказывался такую клятву дать, рассматривались, естественно, как «изменники». Поляризация классовых сил в стране происходила поэтому стремительно.
Причину такого различия нужно искать в том же источнике, что обусловил несравненно более высокую сплоченность вокруг трона российского боярства и дворянства по сравнению с западноевропейскими феодалами. Чтобы не повторяться, ограничимся одним конкретным сопоставлением.
Англичанин Флетчер, бывший в Москве в 1588–1589 годах при царе Федоре Иоанновиче, отмечал, что политика Ивана Грозного «так потрясла все государство и до того возбудила всеобщий ропот и непримиримую ненависть, что это должно окончиться не иначе как гражданской войной» [21]. Несчастной России было мало опричнины, ей нужна была еще гражданская война, Смута. Непосредственным поводом к ней послужило, как известно, убийство или случайное самоубийство царевича Дмитрия.
Веком раньше по сходному поводу разразилась гражданская война в Англии. Ричард III, монарх не более мягкосердечный, чем русский Иван IV или Борис Годунов, тайно извел в тюрьме своих малолетних племянников, имевших право на престол. Это последнее и самое гнусное из целого ряда злодеяний вызвало всеобщее возмущение английского общества. Враждовавшие между собой бароны, сторонники Белой и Алой розы, наконец помирились, выставили общее войско и в решительной битве разгромили армию короля-тирана. Сам Ричард был изрублен в схватке. Его корону, сбитую с головы, нашли где-то под кустом и тут же возложили на голову Генриха VII Тюдора [22]. Ничего более серьезного не произошло, и Англия за удовольствие сменить монарха на троне уплатила вполне умеренную цену, потеряв несколько сотен профессиональных воинов.
Совсем иные последствия имело падение царской короны в России. Если число погибших в годы опричнины, по оценке историографов, было равно примерно четырем тысячам [23], то ущерб, причиненный Смутой, вообще не поддается исчислению. Нидерландский посол, прибывший в Москву вскоре после воцарения Михаила Романова, в сообщении на родину так описывает свое путешествие: на всем пути от границы до столицы голландцы, несмотря на зимнюю пору, были вынуждены ночевать в лесу или в чистом поле — деревни выжжены. Кое-где, правда, остались не тронутые огнем избы, и путешественники пытались обосноваться там на ночь, вытаскивая из них трупы бывших обитателей, да нестерпимый смрад выгонял на мороз [24]. На юге и юго-востоке Московского царства та же картина, что и на западе и Северо-западе. Между тем как войска Василия Шуйского вели борьбу против «тушинского вора», в открывшиеся бреши на оборонительных рубежах прорвалось более ста тысяч крымских и ногайских татар. Эти походы повторялись из года в год на протяжении всего Смутного времени. Уже в 1611 году рязанцы писали, что татары совершенно обезлюдили их землю, пашни остались незасеянными, все оставшиеся в живых сидят в городе в осаде, нигде даже «не добыть овцы — татары всех вывоевали и выганили с собой» [25]. Русским людям, пережившим такое, даже царствование Грозного должно было казаться «старым добрым временем».
Столь страшные уроки не могли пройти, конечно, даром для всего русского народа, то есть как для класса феодалов и верхушки посадского люда, так и для трудовых масс. Посадские низы и крестьянство оказались перед неразрешимым для той эпохи противоречием в своем отношении к государству и отношении государства к ним. «А государство Московское многолюдно, велико и пространно, сияет светло посреди паче всех инех государств и орд… аки на небе солнце», — писали в Москву донские казаки, взявшие приступом у турок мощную крепость Азов и просившие у царя военной помощи ради ее удержания за Россией [26]. Эти в недалеком прошлом бесправные крепостные крестьяне гордятся своим национальным государством, верны ему до конца, готовы головы положить ради его блага и славы, но в той же челобитной выражено и трагическое сознание того, что в «светлом Московском государстве» «рады… все концу нашему», потому что «отбегаем мы из того государства Московского на работы вечные, от хозяйства невольного, от бояр и дворян государевых. Кому об нас там потужить? [27]. Национальное государство, средство защиты всех от внешней опасности, оказывается вместе с тем и государством классовым, оружием угнетения трудового люда.
Чувство патриотизма поэтому сплошь да рядом сковывает классовую борьбу, мешает ей развернуться в полную силу. Великое смирение перед самодержавием было в определенной степени обратной стороной великой национальной гордости, чувства молчаливого, некичливого, но от этого еще более глубокого и мощного.
По понятным историческим причинам чувство это должно было сосредоточиваться и сосредоточивалось нa царе как на воплощенном символе национального единства. Объективное противоречие между национальным характером и классовой эксплуататорской сущностью Российского государства преломлялось в сознании народа так, что вся безграничная преданность этому «светлому государству», что «сияет… ако солнце в небе», все надежды на конечное торжество справедливости, все чаяния обездоленных и угнетенных сходились к личности государя, окруженного радужным ореолом народной сказки, а классовая ненависть, еще темная и неосмысленная, направлялась против царских слуг, «изменников бояр и бар». За многие века многострадальная и мужественная Россия накопила в народных недрах огромный революционный потенциал, да только ключ от этого порохового погреба оставался долгое время в руках царизма.
Царский престол осеняли те же знамена, что плыли в пороховом дыму над русскими полками под Полтавой и при Бородине; и это служило ему более надежной защитой, чем солдатские штыки, казачьи пики и вся полицейско-жандармская рать.
Когда второе поколение русских революционеров направилось «в народ», чтобы поднять его на борьбу с царизмом, оно натолкнулось на стену непонимания и подозрительности. Один из таких пропагандистов, вошедший в качестве рабочего в плотничью артель, вспоминает: «Я начинал с расспросов об их деревне, нужде, о том, как у них себя ведет начальство, и затем уже переходил к своим заключениям и обобщениям. Но тут я натыкался всякий раз почти на одно и то же возражение: соглашавшийся с моими посылками кологривец делал из них свой вывод или подводил свой итог, а именно, утверждал, что сами они, деревенские, во всем виноваты… По этому воззрению им приходится терпеть нужду, обиды и скверное обращение собственно потому, что они сами поголовно пьяницы и забыли бога» [28].
Другая народница, Е. Брешковская, сообщает: «Некоторые крестьяне спрашивали, нет ли под моими грамотами подписи царя или кого-нибудь из его семейства»; один крестьянин-сектант принял ее саму за «царицу или цареву дочку» [29].
Мысль о «подписи царя» легла в основу предприятия «бунтарской группы» в Чигиринском уезде Киевской губернии. Ее руководитель Стефанович выдал себя перед крестьянами за тайного «царского комиссара» и распространил среди них подложный царский манифест, призывавший их вооружаться и подниматься против помещиков в защиту царя и поземельной общины. Такой призыв сразу же был услышан — достаточно отметить, что по Чигиринскому делу было арестовано до 900 крестьян. Историк-марксист М. Н. Покровский подводит следующий итог этой революционной попытке: «…Царизм являлся в самой тесной связи с земельным идеалом крестьян. Свои желания, свои понятия о справедливости крестьяне переносили на царя, как будто это были его желания, его понятия… В народе возможно было вызвать восстание только от имени царя, т. е. не против существующего порядка, а на защиту его» [30].
Проходит еще один исторический период, и третье поколение русских революционеров сталкивается с тем же психологическим препятствием, на этот раз в среде пролетариата. Тот же историк, сам лично стоявший у истоков социал-демократического движения, вспоминает: «…В 1902 году зубатовская организация больше притягивала к себе рабочих, нежели наша партийная организация. Даже в 1905 году, в начале этого года, у Гапона по малой мере в пять раз было больше рабочих, чем в партии. Про Москву, где был Зубатов, и говорить нечего. Тогда рабочих в наших организациях приходилось считать единицами, а Зубатов согнал к памятнику Александру II в 1902 г., 19 февраля, 50 тысяч человек; он сам поражался такой «громадой» и самодовольно говорил, что для того, чтобы двигать такой «громадой», нужен особый талант, который не у всякого есть» [31]. Когда летом 1905 года рабочие Иваново-Вознесенских мануфактур впервые на массовой сходке услыхали лозунг «Долой самодержавие!», они «шарахнулись» и стали кричать: «Не надо! Не надо!» [32]. Конечно, необходимо подчеркнуть, что в количественном отношении большинство российского рабочего класса тех лет составляли вчерашние крестьяне.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Связь времен"
Книги похожие на "Связь времен" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Федор Нестеров - Связь времен"
Отзывы читателей о книге "Связь времен", комментарии и мнения людей о произведении.