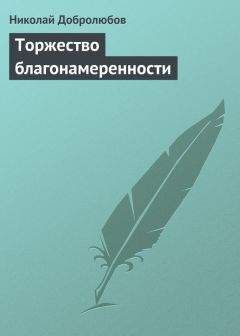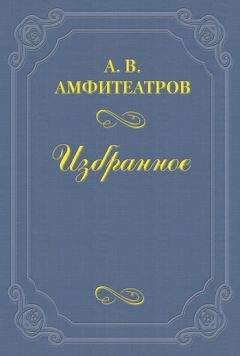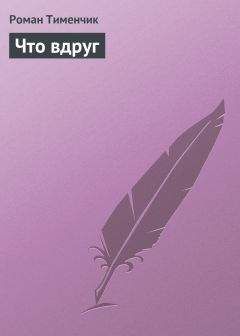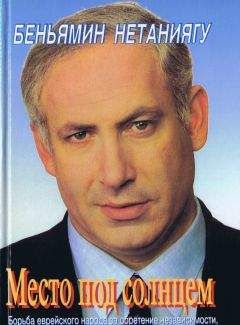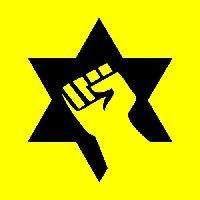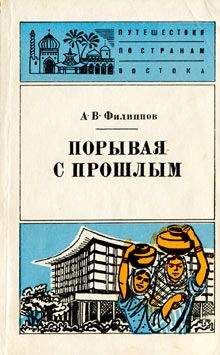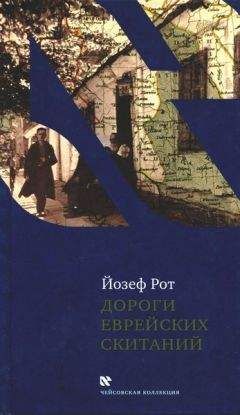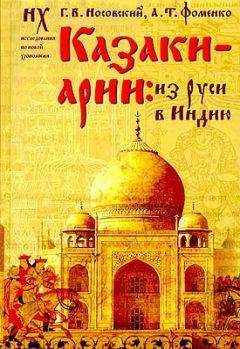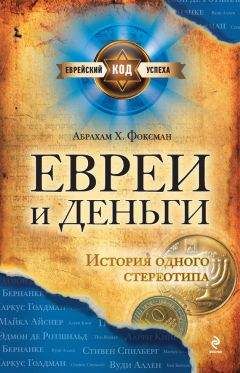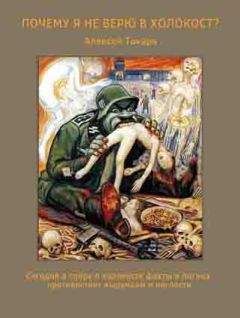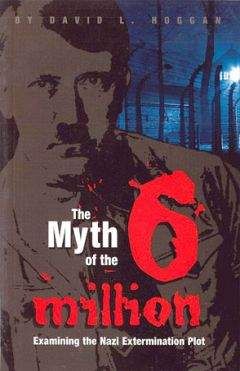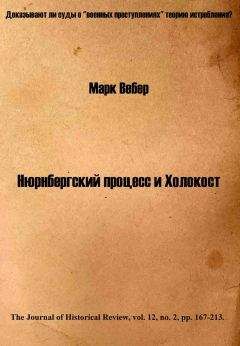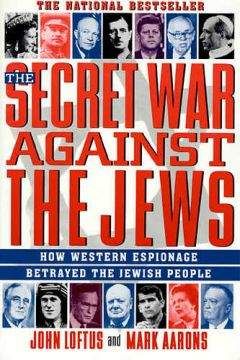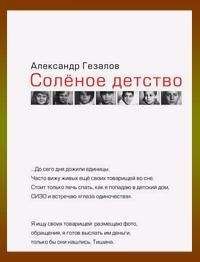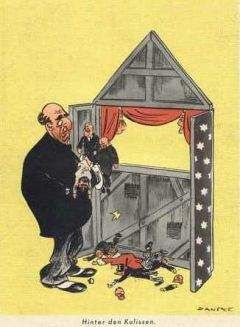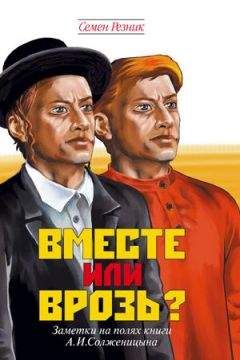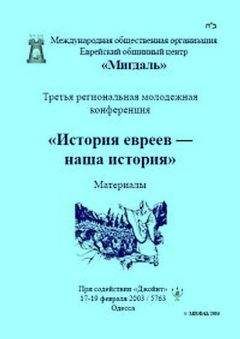Ханна Арендт - Эйхман в Иерусалиме. Банальность зла
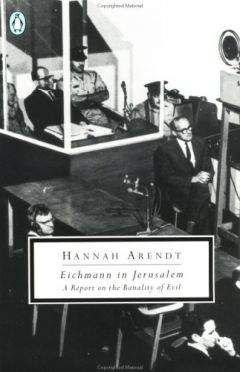
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Эйхман в Иерусалиме. Банальность зла"
Описание и краткое содержание "Эйхман в Иерусалиме. Банальность зла" читать бесплатно онлайн.
Банальность зла: Эйхман в Иерусалиме — книга, написанная Ханной Арендт, присутствовавшей в качестве корреспондента журнала The New Yorker на суде над Адольфом Эйхманом — бывшим немецким офицером. Сотрудник гестапо, он был непосредственно в ответе за уничтожение миллионов евреев. Суд проходил в Иерусалиме в 1961 году.
В написанной ей по итогам процесса книге Арендт анализирует происходившие события, стараясь дать им стороннюю оценку.
Мозг Эйхмана был переполнен такого рода сентенциями до самого края. Память его по части разного рода событий была крайне ненадежной: однажды судья Ландау, выйдя из себя (обычно он такого себе не позволял), воскликнул: «Так что вы можете вспомнить?!» (если уж вы не помните дискуссию на так называемой Ванзейской конференции, на которой обсуждались различные методики убийств), — как и следовало ожидать, Эйхман ответил, что хорошо помнит поворотные пункты своей карьеры, которые не обязательно совпадали с поворотными пунктами в процессе уничтожения евреев или с поворотными пунктами самой истории. (Он всегда с трудом припоминал дату начала войны или нападения на Россию.) Но при этом следует отметить, что он не забыл ни одной из сентенций, которые в разное время дарили ему «радостный подъем». Поэтому когда во время перекрестных допросов судьи пытались достучаться до его совести, они каждый раз натыкались на этот самый «подъем», и неудивительно, что они сначала растерялись, а затемм разозлились, когда поняли, что в распоряжении обвиняемого имеется разнообразнейший набор клише на каждый момент его жизни и на каждый вид деятельности. Для него, для сю сознания никаких противоречий между фразой «Я сойду в могилу, смеясь», которую он твердил в конце войны, и фразой, которую он твердил теперь — «Я готов повеситься публично в назидание всем живущим на земле антисемитам», — не было: обе он произносил с одинаковым «подъемом».
Эта его манера создавала во время процесса немалые трудности — не самому Эйхману, а тем, кто должен был его обвинять, защищать, судить, вести репортажи из зала суда. Для этого надо было принимать его всерьез, что было непросто — поэтому некоторые пошли по самому легкому пути разрешения противоречия между невыразимым ужасом деяний и несомненной серостью того, кто их совершил: они объявили его умным расчетливым лжецом — а он им не был. Его убежденность в соб-ственной правдивости граничила с нескромностью: «Одним из немногих даров, которыми наделила меня судьба, была способность говорить правду о самом себе». Он настаивал на этом своем даре, когда обвинитель пытался приписать ему преступления, которые он не совершал. В набросках, которые он делал в Аргентине, готовясь к интервью с Сассеном — а ведь тогда он еще обладал, как он сам указывал, «полной физической и психологической свободой», — он начертал фантастический наказ 'будущим историкам сохранять объективность, чтобы не сойти е проложенной этими записями дороги правды»: этот наказ фантастичен, поскольку каждая нацарапанная им строчка демонстрирует полнейшее невежество относительно всего того, что напрямую, технически и бюрократически, не касалось его непосредственной работы, и вдобавок к этому — поразительно плохую память.
Вопреки стараниям обвинителя всем было видно, что этот человек — отнюдь не монстр, но трудно было не заподозрить в нем клоуна. Но поскольку такое подозрение могло стать роковым для всего предприятия, и поскольку невозможно было все время напоминать себе о страданиях, которые он и подобные ему причинили миллионам, непросто было и заметить худшую из его клоунад — о ней почти не писали. Что можно поделать с человеком, который сначала, и с большим пафосом, объявляет, что единственный урок, который он усвоил из своей никчемной жизни, — никогда ни в чем не клясться и никаких присяг не приносить.
«Сегодня ни один человек, ни один судья не сможет убедить меня поклясться или дать показание под присягой. Я отказываюсь от этого, я отказываюсь по соображениям морали. Весь мой жизненный опыт говорит о том, что если человек верен присяге, непременно наступит день, когда ему придется за это распла-чиваться, и я пришел к выводу, что ни один судья в мире и ни один из тех, кто обладает властью, не смогут заставить меня поклясться или принести присягу, или дать заверенные присягой показания. Добровольно я на это не пойду, и никто не сможет меня к этому принудить».
Затем, когда ему ясно и четко пояснили, что он может давать показания в свою защиту «как под присягой, так и без оной», без всяких колебаний заявил, что предпочел бы присягу принести. И что можно сказать о человеке, который неоднократно и демонстрируя полнейшую искренность заверял суд, как до того заверял полицейского следователя, что для него самое ужасное — попытаться избежать ответственности, сражать-ся за жизнь, молить о пощаде, а затем, следуя совету адвоката, собственноручно подал прошение о помиловании?
Что ж, настроение у Эйхмана вполне могло меняться, но как только ему удавалось отыскать в памяти соответствующий «вдохновляющий» лозунг, он сразу же успокаивался, ни разу не задумавшись о том, что лозунг одного момента может полностью противоречить лозунгу момента следующего. И, как мы увидим, этот чудовищный дар — находить успокоение в затертых клише — не оставит его и в смертный час.
Глава четвертая
«Решение первое: Изгнание»
Если б то был обычный судебный процесс с обычным перетягиванием каната между обвинением и защитой с целью прояснить все факты и воздать по справедливости обеим сторонам, сейчас можно было бы переключиться на версию защиты и узнать, соответствовали ли реальности гротескные описания Эйхманом его деятельности в Вене, и правда ли то, что его искаженное видение действительности было не злонамеренным, что в этом не проявлялась свойственная ему лживость. Но факты, за которые Эйхмана должны были вздернуть, стали из-вестными и «не подлежали никакому разумному сомнению» задолго до процесса, о них были осведомлены все, кто изучал нацистский режим. Обвинение пыталось установить некоторые дополнительные факты, но не все из них были приняты судом. Существуют также факты, «не подлежащие никакому разумному сомнению», которые должна была бы представить защита. И дело Эйхмана, если не сам процесс, не может быть полным, если не обратить внимания на некоторые из тех фактов, которые доктор Сервациус решил проигнорировать.
Особенно важно это при анализе путаницы во взглядах и идеологии Эйхмана относительно «еврейского вопроса». Во время перекрестного допроса он заявил председателю суда, что во время своего пребывания в Вене он «относился к евреям как к оппонентам в том плане, что мы должны были выработать взаимоприемлемое и справедливое решение… В качестве такого решения я видел предоставление им твердой почвы под ногами, их собственного места, их собственной земли. И с радостью трудился ради достижения такого решения. Я охотно и с удовольствием сотрудничал с ними, потому что это был тот вариант решения, который одобрялся движениями внутри самого еврейского народа, и я считал такое решение самым приемлемым». Вот почему они «трудились бок о бок», вот почему их работа была «основана на взаимопо-нимании». Это же было в интересах евреев — убраться из страны, жаль только, не все евреи это понимали: «Кто-то должен был им помогать, кто-то должен был помогать этим функционерам в их работе, и я это делал». Если еврейские функционеры были «идеалистами», то есть сионистами, он их уважал, «относился к ним как равным», выслушивал все их «требования и жалобы и просьбы о поддержке» и выполнял по мере возможности свои «обещания»: «Люди склонны сейчас об этом не вспоминать». Кто как не он, Эйхман, спас сотни тысяч евреев? Что как не его рвение и организаторский дар позволили им вовремя уехать? Да, это правда, в то время он не мог предвидеть наступления «окончательного решения», но он спасал их — «это же факт».
Во время процесса сын Эйхмана дал в США интервью: он тоже постоянно об этом говорил. Это, должно быть, стало семейным преданием.
В некотором смысле можно понять, почему защитник не настаивал на эйхмановской версии взаимоотношений с сионистами. Эйхман признавал — он говорил об этом в интервью Сассену, — что встретил свое назначение «с энтузиазмом, не как телок, отправленный на заклание», что он весьма отличался от своих коллег, «которые никогда не читали главную книгу [то есть Judenstaat Герцля], не трудились над ней, не прониклись ее духом», и потому «в их работе отсутствовало внутреннее понимание». Они были «всего лишь бюрократами», для них все ограничивалось «параграфами и приказами, ничем больше они не интересовались», короче говоря, они были «винтиками» — такими же, каким, по словам защитника, был и сам Эйхман.
Если говорить о безоговорочном подчинении приказам фюрера, то «винтиками» были все без исключения — даже Гиммлер: его массажист Феликс Керстен рассказывал, что и Гиммлер относился к «окончательному решению» без большого восторга; на полицейском следствии Эйхман уверял, что его собственный босс Генрих Мюллер никогда бы не предложил ничего столь «грубого», как «физическое уничтожение».
Но Эйхмана теория «винтика» явно не удовлетворяла. Конечно же, он не был такой величиной, каким его пытался представить господин Хаузнер — в конце концов он не Гитлер, да и в «решении» еврейского вопроса его значимость несравнима с тем же Мюллером, или Гейдрихом, или Гиммлером: Эйхман не был мегаломаньяком. Но он и не был таким неприметным «винтиком», каким хотел представить его защитник.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Эйхман в Иерусалиме. Банальность зла"
Книги похожие на "Эйхман в Иерусалиме. Банальность зла" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Ханна Арендт - Эйхман в Иерусалиме. Банальность зла"
Отзывы читателей о книге "Эйхман в Иерусалиме. Банальность зла", комментарии и мнения людей о произведении.