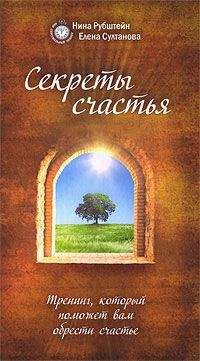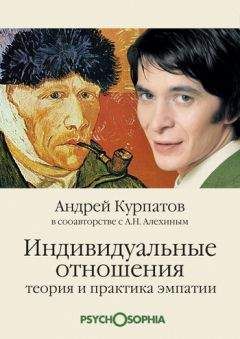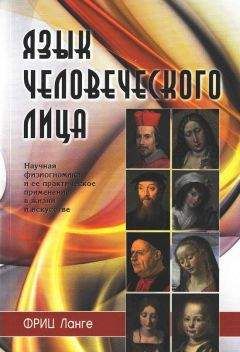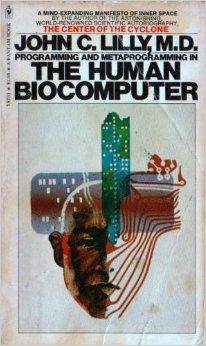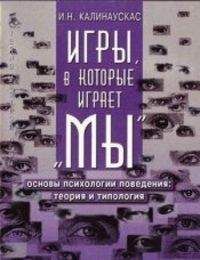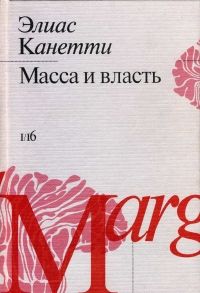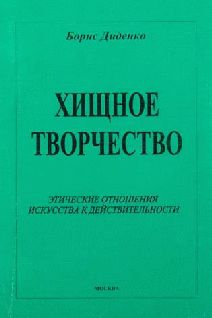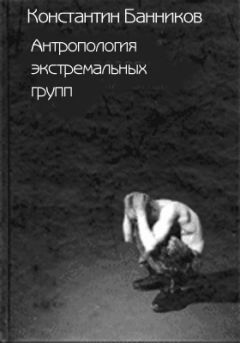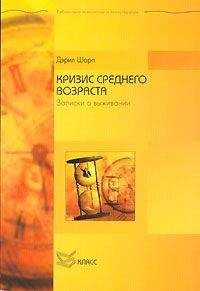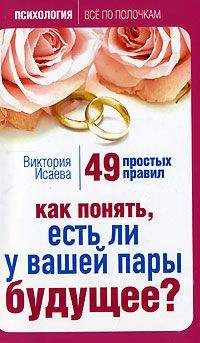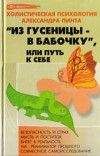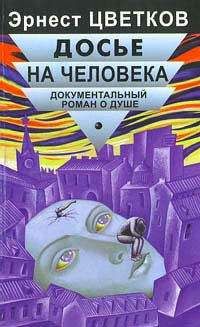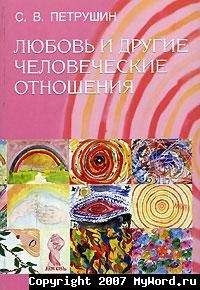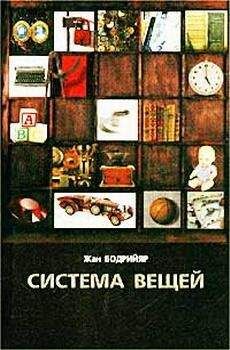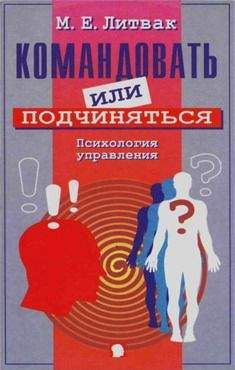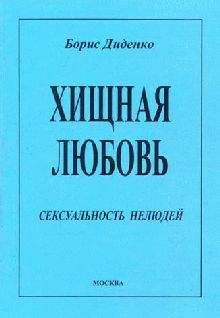Константин Банников - Антропология экстремальных групп: Доминантные отношения среди военнослужащих срочной службы Российской Армии
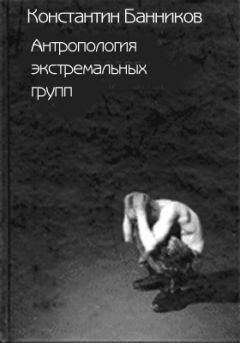
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Антропология экстремальных групп: Доминантные отношения среди военнослужащих срочной службы Российской Армии"
Описание и краткое содержание "Антропология экстремальных групп: Доминантные отношения среди военнослужащих срочной службы Российской Армии" читать бесплатно онлайн.
…Круг этих людей замкнут и постоянен. Они одеты в одинаковую форму, вместо имен им присвоены номера. Перемещение их тел в пространстве, перемена функций и даже поз регламентированы общим распорядком, регулярными построениями и тотальным контролем. Эта человеческая масса изолирована от гражданского общества, но внутри нее ни один из индивидов не имеет возможности уединения. Они вынуждены вместе и по команде работать, есть, спать, справлять «естественные надобности», мыться, читать, одним словом, вместе быть.
Что происходит внутри этой массы человеческого «концентрата»? Как взаимодействуют между собой ее отдельные человеческие «атомы»? В какие структуры они выстраиваются и как в них функционируют? Что движет их самоорганизацией?…
Данная монография Банникова — это первое научное социально-антропологическое исследование, очень важное для понимания феномена армейской дедовщины. Свободный стиль изложения делает монографию доступной широкой аудитории читателей, всем тем, кто интересуется глубинными социокультурными процессами, протекающими в армии и других обществах закрытого типа. Как отмечает И. С. Кон, это «самая известная отечественная работа» на эту тему.
В карауле не легко стоять.
Как ты там живешь, моя хорошая,
Добрая и ласковая мать?
Знаю я, как ты рассветом ранним,
Когда звезды блекнут в тишине,
Ты склоняешься над моими конвертами,
Думаешь, наверно, обо мне.
Я здоров, напрасно ты волнуешься,
Я служу, работаю, учусь.
А когда придет пора осенняя,
Я тогда к тебе домой вернусь.
А пока в бушлате запорошенном
Буду на границе я стоять.
Береги себя, моя хорошая,
Добрая и ласковая мать.
(ПМА, Тувинско-Алтайская экспедиция, 2000 г.)
Данный текст сам по себе можно считать наивной лирикой, однако, контекст всегда расширяет понимание. Примыкающие к этому стихотворению тексты левой половины разворота представляют собой его полную этико-эстетическую и эмоциональную антитезу, по закону бинарной оппозиции представляют полный спектр брутальных идеалов: один — про женщин, второй — про пьянку, третий — про драку, четвертый — про драку из-за женщин:
"У пограничника должна быть только одна девушка, но в каждом населенном пункте".
"Кто много пьет — тот много спит / Кто много спит — тот не вредит / Кто не вредит — тот чист душой / Отсюда вывод — пей родной".
"Старшина у нас хороший / Старшина у нас один / Мы все вместе собиремся / И п…ды ему дадим".
"Кто обидит девушку пограничника, тот навсегда останется загадкой для хирурга".
(ПМА, Тувинско-Алтайская экспедиция, 2000 г.)
Такие тексты — лишь только один пример из массы подобных, составляющих фундаментальный пласт духовной культуры в армии.
Бессознательная трансформация смысловых значений половых органов в актуализации знаков элитарности, коррелирует с экзальтированным восприятием образа женщины в текстах: чрезмерно инфантильном посвящении матери, с одной стороны, и излишне доминантном обращении к жене (невесте), с другой. Л. С. Клейн видит в подобных фактах реликты первобытного материнского культа[102]. В то же время это можно расценивать в качестве следствия общей инфантилизации человека в армии, неизбежно вытекающей из лишения солдата всякой ответственности за свою жизнь в контексте тотального подчинения. Это, тем не менее, не отрицает высказанного Клейном предположения, поскольку материнские культы могут также следовать из общей инфантилизации сознания, наступающей, в свою очередь, вследствие лишения взрослого мужчины ответственности.
Повышенная агрессивность в армии может быть понята как обратная сторона инфантильных комплексов, вызванных потребностью в компенсации в условиях постоянного стресса и повышенной тревожности. Все это расширяет психо-символическую основу доминантных отношений.
"Армейские маразмы": от диктатуры абсурда к культуре абсурда
Социальный, этологический, семиотический аспекты смеха
Смеховая культура имеет ярко выраженное социоконсолидирующее значение. Для смеха необходимы две стороны — субъект (тот, кто смеется) и объект (над кем/чем смеются). Смех представляет собой своеобразный продукт социального взаимодействия. И юмор здесь выступает как общественно санкционированный смехотворный механизм, реализующийся в знаковых системах. В социальном взаимодействии семиотика юмора основана на оппозиции эмоций субъекта и объекта, что позволяет его рассматривать как инструмент доминантных отношений.
"Именно в сопернической страсти, в победе заложено снятие всего стрессового напряжения. Смех в данном случае представляет своеобразный биологический регулятор при завершающей фазе соперничества. Смех, следовательно, есть всплеск радостного возбуждения как ответ на внезапно обнаружившееся однозначное превосходство субъекта над противостоящей амбицией".[103]
Некоторые исследователи рассматривают смех в качестве защитной биологической реакции или внутривидового адаптационного фактора. Так, Н. А. Монахов, рассуждая о значении аффектов в групповых взаимоотношениях, приходит к выводу, что через смех у человека решаются вопросы видового выживания.[104]
В таком же адаптационном качестве проявляет себя социальная функция смеха. Люди, для которых остро стоит вопрос социальной адаптации в изучаемых нами сообществах, бывают чрезвычайно смешливы, несмотря на безрадостность своего положения.
Во-первых, возможны ситуации, когда индивид смеется над индивидом, группа над группой и группа над индивидом. Однако трудно представить, чтобы индивид открыто смеялся над группой, частью которой он является, и тем более посредством смеха утверждал свое превосходство над ней.
Во-вторых, источником доминантного смеха (осмеяния) всегда является некомпетентность объекта по отношению к норме — общественно-санкционированному правилу.[105] Таким образом, даже когда отдельный человек смеется над кем-то или над чем-то, он это делает не сам по себе, он смеется от имени своей группы, нормам которой следует. Итак, смех как фактор доминантного взаимодействия направлен на воспроизводство социальной нормы, и, в конечном счете, целостности социума как такового.
Конфликт, возникающий на почве нарушенных правил социального контакта — это всегда стресс, который сам по себе не снимается даже после устранения "деструктивного звена", но легко снимается смехом. В этом состоит защитная функция смеха как социального феномена.
М. Л. Бутовская рассматривает улыбки и смех как ритуализованное поведение, имеющее филогенетическое происхождение и отмечает, что они связаны с мимикой расслабленного рта, символизирущей подчинение и легкий испуг у всех приматов. В этом контексте улыбка человека выполняет аналогичную по смыслу функцию умиротворения, что и у обезьян.[106] Следовательно, как средство нейтрализации агрессии смеховое поведение формировалось и развивалось в качестве коммуникативной системы. Н. А. Монахов считает, что у наших предков способность смеяться предшествовала возникновению речи в процессе эволюции.
В армии, в условиях актуализации социообразующей функции насилия, нормой социального взаимодействия выступает "подъе…а" — крайне ироничная и агрессивная оценка сослуживцами личностных качеств друг друга с целью постоянного поддержания своего реноме. Солдат вынужден постоянно демонстрировать готовность к бытовой агрессии, которая понимается как социальная потенция. Он должен парировать иронично-агрессивные выпады своих товарищей по службе адекватным способом, желательно даже еще более агрессивно и более иронично.
Когда возникает спор, грозящий перейти в конфликт, побеждает тот, кто вызвал общий смех в адрес своего оппонента. Лицо, проявляющее неспособность быть субъектом доминантного юмора, может утвердиться в качестве постоянного объекта насмешек, переходящих в более серьезные формы доминантных отношений. Это касается представителей каждой страты. Так, например, дед, ставший в силу своих личностных качеств объектом постоянных насмешек внутри своей "дедовской" страты, очень скоро доживет до того, что над ним станут смеяться и духи. Тогда он рискует быть опущенным в разряд чмо.
С другой стороны, человек, обладающий развитым чувством юмора, которое он не стесняется проявлять открыто (несмотря на возможные санкции), имеет шанс фактически повысить или укрепить свой статус.
Способность благополучно выдерживать насмешки — это способность не обижаться на шутки, определяющая наличие у человека чувства юмора. Обиженный — тот, кто "шуток не понимает". Этот принцип жестко отслеживается в период принятия человека в группу. У заключенных ритуал инициации ("прописка") направлен на то, чтобы выяснить, насколько неофит способен не воспринимать свою боль всерьез, т. е. абстрагироваться от насилия. В ходе "прописки" важно не показать, что ты обиделся, т. к. на зоне есть присказка: "Обиженных е…ут".[107]
Слово "обиженный" — синоним слова "опущенный". Способность жертвы воспринимать "прописку" как игру является маркером ее идентичности и лояльности: прощать причиненные страдания можно только своим.
Дедовщина как система иерархии предписывает каждой из страт свой поведенческий комплекс, основанный на смеховом поведении. Духи, молодые, черепа, деды, дембеля — им всем присущи свои особенные добродетели, отраженные в местном фольклоре. Тем, кто не прослужил год и не прошел инициацию,1 не приличествует беспечно смеяться, поскольку радоваться им нечему — загнанные поддержанием уставного и неуставного порядка духи должны "вытирать слезы половой тряпкой". Обычная придирка к духу — "ты что, тащишься?!". И наоборот, поведенческий комплекс деда — это смех, веселье и демонстративная раскованность. Деду "по сроку службы" положено "тащиться". Характерно, что слово "тащиться" одновременно означает и релаксацию, и смех, и привилегию. В негативном смысле старшие им выражают свое негодование по поводу отдыха младших, неположенного им "по сроку службы".
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Антропология экстремальных групп: Доминантные отношения среди военнослужащих срочной службы Российской Армии"
Книги похожие на "Антропология экстремальных групп: Доминантные отношения среди военнослужащих срочной службы Российской Армии" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Константин Банников - Антропология экстремальных групп: Доминантные отношения среди военнослужащих срочной службы Российской Армии"
Отзывы читателей о книге "Антропология экстремальных групп: Доминантные отношения среди военнослужащих срочной службы Российской Армии", комментарии и мнения людей о произведении.