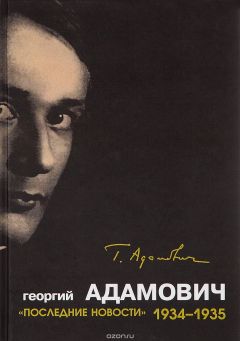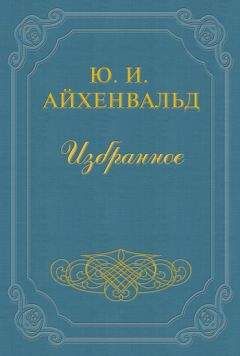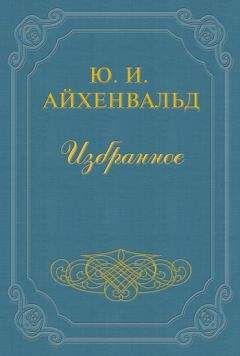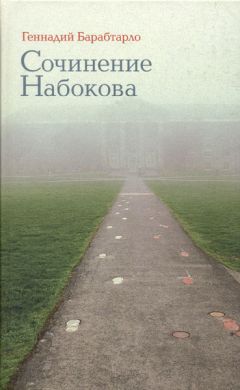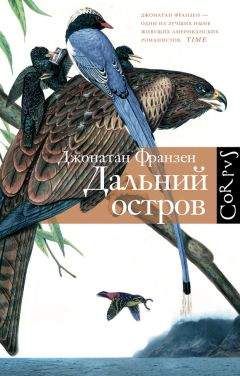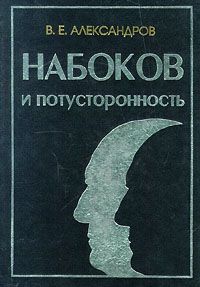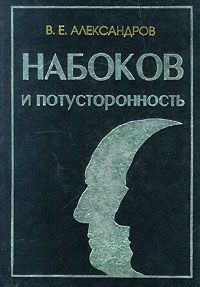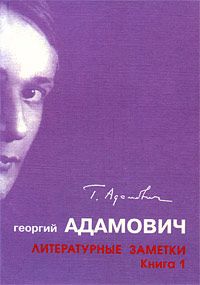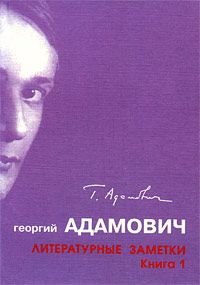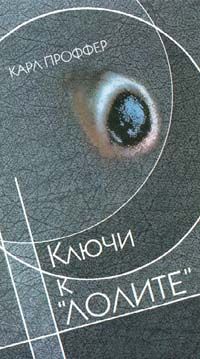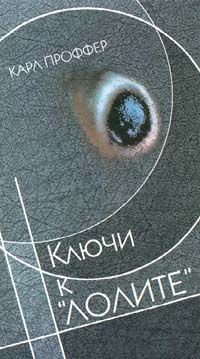Николай Мельников - Классик без ретуши

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Классик без ретуши"
Описание и краткое содержание "Классик без ретуши" читать бесплатно онлайн.
В книге впервые в таком объеме собраны критические отзывы о творчестве В.В. Набокова (1899–1977), объективно представляющие особенности эстетической рецепции творчества писателя на всем протяжении его жизненного пути: сначала в литературных кругах русского зарубежья, затем — в западном литературном мире.
Именно этими отзывами (как положительными, так и ядовито-негативными) сопровождали первые публикации произведений Набокова его современники, критики и писатели. Среди них — такие яркие литературные фигуры, как Г. Адамович, Ю. Айхенвальд, П. Бицилли, В. Вейдле, М. Осоргин, Г. Струве, В. Ходасевич, П. Акройд, Дж. Апдайк, Э. Бёрджесс, С. Лем, Дж.К. Оутс, А. Роб-Грийе, Ж.-П. Сартр, Э. Уилсон и др.
Уникальность собранного фактического материала (зачастую малодоступного даже для специалистов) превращает сборник статей и рецензий (а также эссе, пародий, фрагментов писем) в необходимейшее пособие для более глубокого постижения набоковского феномена, в своеобразную хрестоматию, представляющую историю мировой критики на протяжении полувека, показывающую литературные нравы, эстетические пристрастия и вкусы целой эпохи.
Другое дело — убедительность художественная. Как произведение чистой фантастики, не нуждающейся в строгом историческом обосновании, «Приглашение на казнь» очень сильно и убедительно просто потому, что целостно, что несколько первоначально возникших образов в нем с замечательною гармонией развиты в картину большого охвата. Вот это развитие образов и было, мне кажется, вторым, а по внутреннему напряжению даже и первейшим заданием Сирина. Полагаю, что в русской (а вероятно — в мировой) литературе есть только одно произведение, генетически схожее с «Приглашением на казнь»: это — гоголевский «Нос», в котором историки литературы напрасно ищут (и не находят) скрытый философический или моральный смысл и весь действительный смысл которого заключается в совершенно аморальной игре образов, игре образами. В «Приглашении на казнь» Сирин, как Гоголь в «Носе», дает не что иное, как ряд блистательных арабесок, возникающих из нескольких основных мотивов, основных тем и объединенных, в глубокой своей сущности, не единством «идейного» замысла, а лишь единством стиля.
Преимущество Гоголя перед Сириным, на мой взгляд, в том, что свою игру образами он и не думал прикрывать никаким «идейным» фасадом (за идеи, навязываемые «Носу» литературоведами, Гоголь, разумеется, не отвечает). Со всем тем сами по себе арабески, начертанные Сириным, великолепны. Единственный недостаток «Приглашения на казнь» заключается, может быть, в некоторой растянутости. Повесть, лишенная, в сущности, фабулы, пожалуй, выиграла бы, если бы была немного короче. Для того чтобы бередить притупляющуюся впечатлительность читателя, Сирин под конец вынужден прибегать к слишком сильным средствам, к столь явным преувеличениям, что страшное становится слишком любопытно, а там, глядишь, и забавно — и, наконец, вызывает улыбку. У Гоголя наоборот: у него смешное становится страшно, от чего вся вещь выигрывает в глубине и силе <…>
Возрождение. 1936. 12 марта. № 3935. С. 3–4
Сергей Осокин <Вадим Андреев>{56}
Рец.: Приглашение на казнь. Париж: Дом книги, 1938
Роман Сирина, печатавшийся в «Современных записках» из номера в номер, чрезвычайно выиграл от издания отдельной книжкой — перед читателем яснее встает весь план этого оригинального литературного произведения, к которому, нужно отметить, совсем не подходит название «роман». «Приглашение на казнь» вовсе не роман, а нечто совсем другое, правда, очень трудно определимое. Теперь, когда появилась возможность целиком перечесть произведение Сирина, стала понятнее основная пародийная схема, отчетливее выступают затронутые Сириным темы — раздвоение личности, противопоставление индивидуума коллективу, призрачность реальной человеческой жизни, фантастика всего того, что нас окружает и в чем мы уже давно перестали видеть (по привычке, по лености ума) какую бы то ни было фантастику. Даже больше — чуть не впервые от романа Сирина можно провести отчетливые линии к русской литературе (до сих пор Сирин нам казался писателем исключительно западным) — к «Носу» Гоголя и к «Моим запискам» Леонида Андреева.
И вместе с тем резче обозначилось двойственное чувство восхищенья и досады, которое постоянно появляется при чтении произведений Сирина за последний период времени: да, талантливо, очень талантливо, и вместе с тем до чего все это необязательно и поверхностно. Талантливы отдельные страницы, отдельные эпизоды, отдельные образы — чего стоит одна страничка об игре в «нетки», какая изумительная и глубокая тема намечена в ней, — и вместе с тем все эти отдельные вспышки не связаны друг с другом, а порою и противоречивы одна другой, и тогда, по выражению самого Сирина, получается, что «нет на да — дает нет».
С необычайной легкостью затронуты глубочайшие темы и с такою легкостью разрешены, что поневоле не веришь этим призрачным разрешениям: логически как будто и верно, но тогда зачем ломали себе головы над этими самыми вопросами в течение тысячи лет тысячи мудрецов? Если так абсолютно и безнадежно бездарен человеческий коллектив, то какова же цена отдельных личностей, этот самый коллектив составляющих? Если раздвоенье личности укладывается в формулу — «я» первый — это «я» осторожный, внимательный, «я», у которого прекрасно действуют все задерживающие центры, а «я» второй — это «я» импульсивный, смелый, следующий первому своему движению, — то стоит ли о таком «раздвоении» и разговаривать?
Последние годы Сирин стал на очень опасный путь — внешней акробатики и внутренней схематизации и упрощения. Мне думается, что Сирин настолько талантлив, настолько органически превосходный писатель и, главное, настолько еще молод, что «Приглашение на казнь» не намечает еще окончательной формы, в которую будут отливаться все его произведения, а является одним из характернейших примеров для определения некоего отрезка его творческого пути.
Русские записки. 1939 (январь). № 13. С. 198–199
П. Бицилли{57}
Рец.: Приглашение на казнь. Париж: Дом книги, 1938
Когда перечитываешь у писателя сразу то, что раньше приходилось читать с большими перерывами, легче подметить кое-какие постоянно встречающиеся у него стилистические особенности, а тем самым приблизиться к уразумению его руководящей идеи — в полном смысле этого слова, т. е. его видения мира и жизни, — поскольку у настоящего писателя «форма» и «содержание» — одно и то же. Одна из таких черт у Сирина — это своего рода «каламбур», игра сходно звучащими словами. «…И как дым исчезает доходный дом…» («Соглядатай»), — и еще множество подобных сочетаний в «Приглашении на казнь»: сочетаний слов с одинаковым числом слогов и рифмующих одно с другим («…От него пахло мужиком, табаком, чесноком»), или «симметрических» в звуковом отношении словесных групп: «…в песьей маске с марлевой пастью…» (пм — мп); ср. еще: «…Картина ли кисти крутого колориста» — аллитерации плюс ассонансы; «тесть, опираясь на трость…»; «Там тамошние холмы, томление прудов, тамтам далекого оркестра…»; «блевал бледный библиотекарь…», — или еще сколько угодно подобных случаев. Похоже, что автор сам намекает на эту свою манеру, говоря о романе, который читал Цинциннат, где «был в полторы страницы параграф, в котором все слова начинались на п». Но здесь он словно подсмеивается над собою, последовательный в своем стремлении выдержать тон иронии; в другом месте он, говоря от имени Цинцинната, обосновывает этот словесный прием: «…догадываясь о том, как складываются слова, как должно поступать, чтобы слово обыкновенное оживало, чтобы оно заимствовало у своего соседа его блеск, жар, тень, само отражаясь в нем и его тоже обновляя своим отражением…» Прием, отмеченный мною, — лишь одно из средств «оживить» слово, сделать его экспрессивнее, заставить услышать его звучность. А звучность слова связана с его смыслом: «шелестящее, влажное слово счастье, плещущее слово, такое живое, ручное, само улыбается, само плачет…» («Соглядатай»); «Вот тоже интересное слово конец. Вроде коня и гонца в одном…» (ib.). Ср. также в «Приглашении на казнь»: «Тупое тут, подпертое и запертое четою „твердо“, темная тюрьма… держит меня и теснит». Раз так, то слова, сходно звучащие, говорят о чем-то общем.
Разумеется, здесь нет по существу ничего нового — так же как и в широком пользовании смелыми метафорами, перенесении, например, на понятия, выражающие «душевное», «материальных» качеств: «…задумалась женской облокоченной задуманностью» («Соглядатай»), или на понятия, порождаемые восприятиями одной категории, качеств, относящихся к восприятиям другой: «бархатная тишина платья, расширяясь книзу, сливалась с темнотой» («Приглашение на казнь»). Здесь словесные указания на отдельные восприятия сочетаются так, что вместо восприятий нам передается одно целостное впечатление. Подобные стилистические чудеса можно найти уже у Гоголя, затем и у ряда других. Все дело в функции этих приемов, обнаруживаемой степенью смелости при пользовании ими, — а в этом отношении Сирин идет так далеко, как, кажется, никто до него, — поскольку подобные дерзания у него встречаются в контекстах, где они поражают своей неожиданностью: не в лирике, а в «повествовательной прозе», где, казалось бы, внимание устремлено на «обыкновенное», «житейское». Это связано у Сирина и с композицией, где фантастика, небывальщина как-то вкрадываются туда, где мы их не ожидаем, как бы часто это ни случалось, как в «Приглашении на казнь», не ожидаем оттого, что как раз тогда, когда это имеет место, тон повествования — нарочито «сниженный», спокойный, такой, в каком принято повествовать об обыденщине. Включение небывальщины в вульгарную обыденщину тоже не ново: оно есть и у Гоголя, и у Салтыкова, еще раньше у Гофмана. Но, раз вторгшись, небывальщина у них выступает на первый план; фантастический мотив разрабатывается подробно в каждом куске повествования, так что обыденщина составляет как бы рамку или фон. У Сирина элементы фантастики и реальности намеренно смешиваются; более того — как раз о «невозможном» повествуется мимоходом, как о таких житейских мелочах, на которых не задерживается внимание: «Слуги… резво разносили кушанья, иногда даже перепархивая с блюдом через стол (что-то похожее на живопись Шагала), и общее внимание привлекала заботливость, с которой м-сье Пьер ухаживал за Цинциннатом…» Подобных примеров можно было бы привести сколько угодно. Иногда, путем опять-таки легчайших словесных намеков, и то, что относится к «действительности», приобретает характер какой-то бутафорской фикции: «Луну уже убрали, и густые башни крепости сливались с тучами». Сперва это кажется каким-то бредовым восприятием действительности. Но если прочесть любую вещь Сирина, — в особенности «Приглашение на казнь», до конца, все сразу, так сказать, выворачивается наизнанку. «Реальность» начинает восприниматься как «бред», а «бред» как действительность. Прием «каламбура» выполняет, таким образом, функцию восстановления какой-то действительности, прикрываемой привычной «реальностью».
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Классик без ретуши"
Книги похожие на "Классик без ретуши" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Николай Мельников - Классик без ретуши"
Отзывы читателей о книге "Классик без ретуши", комментарии и мнения людей о произведении.