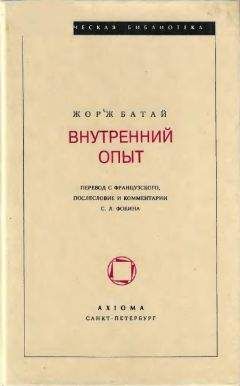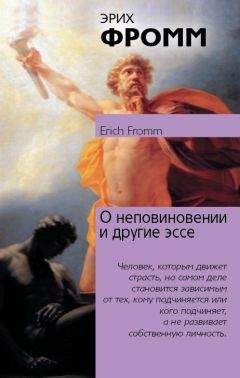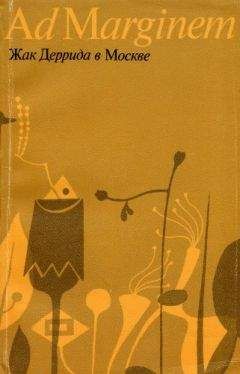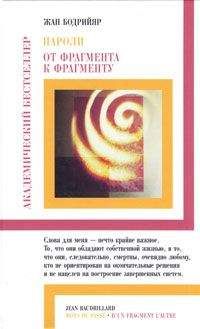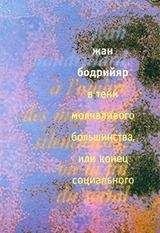Жак Деррида - Эссе об имени
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Эссе об имени"
Описание и краткое содержание "Эссе об имени" читать бесплатно онлайн.
Жак Деррида (р. 1930 г.) — один из самых оригинальных и известных философов XX века, вот уже несколько десятилетий привлекающий к себе самое пристальное внимание широкого круга интеллектуалов. "Эссе об имени" включает в себя три относительно самостоятельных работы: "Страсти", "Кроме имени" и "Хора". Книга представляет большой интерес для философов, филологов, лингвистов, культурологов, искусствоведов, преподавателей вузов, студентов и всех, интересующихся состоянием современной философской мысли. Издание осуществлено при поддержке Министерства иностранных дел Франции и Французского культурного центра в Москве
— "Вот так смутно нам представляется хора: с трудом, апоретически и как бы в грезах", — некто (Тимей, Платон и пр.) как бы говорит в итоге:
"Вот на что отныне и навеки будут похожи все интерпретации того, о чем я здесь говорю".
Все интерпретации будут похожи на то, что я говорю о хоре, а следовательно, то, что я говорю о хоре, заранее толкует и описывает закон всей истории герменевтики и институций, которые конструируются по этому поводу, об этом. В этом нет ничего неожиданного. Хора принимает все определения, чтобы дать им место, но она не имеет ни одного собственного. Она ими владеет, их имеет, потому что их получает, но она не владеет ими как собственностью, у нее нет ничего в собственности. Она "есть" не что иное, как итог или процесс того, что в настоящий момент запечатлелось "на" ней, на ее сюжет и именно на него, но она не есть сюжет или постоянная опора для всех этих интерпретаций, хотя, все же, она не сводится к ним. Просто этот излишек — ничто; ничто, что может быть или о чем можно говорить онтологически. Такое отсутствие опоры, которое нельзя представить как отсутствующую опору или в отсутствие как опору, вызывает и сопротивляется всякой бинарной или диалектической оппозиции, всякому освидетельствованию философского, а более строго говоря — онтологического типа. Этот тип оказывается одновременно бросающим вызов и отброшенным тем самым, чему дает место. Нужно ли опять напоминать, настаивая на этом более аналитическим образом, что если что-то имеет место или, согласно нашей идиоме, "данное" место, то давать место здесь не означает жест некоего дающего субъекта, основы или начала какой-то вещи, которую можно было бы кому-то дать. Несмотря на столь робко предварительный характер этих замечаний, они, возможно, все же позволят нам начать различать силуэт "логики", формализация которой кажется почти невозможной. Будет ли эта "логика" логичной, "формой логики", если воспользоваться выражением Вернана, когда он говорит о "форме логики" мифа, которую нужно "сформулировать и даже формализовать"? Конечно, такая логика мифа существует, но здесь снова возникает наш вопрос: а не принадлежит ли мысль о хоре, которая очевидно не освобождает от "непротиворечивой логики философов", пространству мифической мысли? Руководствующийся ею "не-законнорожденный" логос, все ли он еще мифос? Дадим себе время, чтобы снова начать издалека. Рассмотрим способ, каким спекулятивная диалектика Гегеля включает мифическую мысль в телеологическую перспективу. Об этой диалектике можно сказать, что она является и что она не является непротиворечивой логикой. Она интегрирует и снимает противоречие как таковое. Таким же образом, она снимает мифическое рассуждение как таковое в философеме. По словам Гегеля (а от себя добавим — после Гегеля и в соответствии с ним), философия становится серьезной только с того момента, когда встает на твердый путь логики: иными словами, отставив, а точнее — сняв, свою мифическую форму, — после Платона, с Платоном. Философская логика возвращается к себе самой, когда концепт просыпается от своего мифологического сна. Сон и пробуждение, ибо событие состоит в простом снятии покрова — эксплицировании и осознании философемы завернутой в свою виртуальную потенцию. Мифема может быть лишь пре-философемой, предлагаемой и обещаемой своему диалектическому Aufhebung. Это предшествующее телеологическое будущее время похоже на время рассказа; но это рассказ о выходе "за" рассказ. Оно обозначает конец повествовательного вымысла (fiction). Гегель объясняет его, выступая в защиту своего "друга Крейцера" и его книги "Symbolik und Mythologie deralten Volker, besonders der Griechen. 1810–1812"{26}. Мифологический логос, несомненно, может порождатьпретензию быть разновидностью "философствования"{27}. Философы могут пользоваться мифами, чтобы приблизить философемы к воображению (Phantasie). Но "содержание мифа есть мысль"{28}. Мифический план остается формальным и внешним. Если мифы Платона "красивы", если мифическое "представление" (Darstellung) мысли" красиво", то мы можем по ошибке посчитать мифы "превосходнее" (vortrefflicher), чем "абстрактный способ выражения". Действительно, Платон прибегает к мифу только там, где чувствует "бессилие (Unvermogen) выразиться в чистой модальности мышления". Но отчасти, еще потому, что он делает это только во введении к диалогам, а введение никогда не бывает чисто философским (известно, что Гегель думал о введениях и предисловиях вообще). Совсем по другому Платон выражается, когда он доходит до самой вещи, до главного сюжета. В "Пармениде", например, простые детерминации мысли обходятся без образа и мифа. Диалектическая схема Гегеля относится здесь с одинаковым успехом к мифическому, воображаемому или символическому. "Парменид" "серьезен": обращение к мифу здесь не очень часто. Оппозиция серьезного и несерьезного, которая господствует еще сегодня в оценках, и не только в так называемой англосаксонской мысли, покрывает здесь философскую мысль как таковую и в добавок ее мифологическо-игровые отклонения. Ценность философской мысли, т. е. также и ее серьезность, измеряется немифическим характером ее носителя. Гегель подчеркивает здесь ценность, серьезность, ценность серьезного, а Аристотель — его гарант. Поскольку, заявив, что "ценность Платона во всяком случае не заключается в мифах" ("Der Wert Platans liegt aberniht in den Mythen", S. 109), Гегель цитирует и переводит Аристотеля. Следует остановится на этом. Известно, но напомним об этом мимоходом прежде, чем приступим непосредственно к проблеме, каким весом давила на всю историю интерпретаций аристотелевская трактовка "Тимея", особенно в отношении хоры. Гегель переводит следующим образом парафраз из "Метафизики":
— Van denen welche mythischphibsophieren, ist es nicht der Muhe wert, ernstlich zu handeln —
Кто философствует, прибегая к мифу, не стоит того, чтобы его рассматривали серьезно.
Гегель как бы колеблется между двумя интерпретациями. В философском тексте миф является то знаком философского бессилия, неспособности дойти до концепта как такового и придерживаться его, то признаком диалектического, а еще более — дидактического всесилия, педагогического мастерства серьезного философа, полностью владеющего философемой. Одновременно или последовательно, Гегель, по-видимому, признает за Платоном и это бессилие, и это мастерство. Две эти оценки противоречат друг другу лишь по видимости или до определенного момента. Общим у них является подчинение мифа как дискурсивной формы содержанию концепта обозначаемого, смыслу, который в сущности своей может быть только философским. А философская тема, концепт обозначаемого, какой бы ни была ее формальная презентация — философская или мифическая — сохраняет силу закона, господство или династию дискурса. Здесь можно видеть нить наших рассуждений: если у хоры нет смысла или сущности, если это не философема и если вместе с тем она ни объект, ни форма фантастического рассказа мифического типа, то где ее поместить на схеме? С виду противоречивая, но в глубине последовательная эта логико-философская оценка не приложима к Платону. Она уже отмечена некоторым "платонизмом".
Гегель не читает Платона, отталкиваясь от Аристотеля и без ведома Платона, будто бы расшифровывая практику, смысл которой оставался недоступным автору "Тимея". Определенная программа этой оценки кажется уже прочитывается в данном произведении, как мы можем сейчас это проверить. Но может быть — одним условием больше, одним меньше, — это дополнительное условие могло бы жить, помещать и в силу этого тоже выходить за пределы названной программы. Прежде всего программа. Космогония "Тимея" проходит цикл знания по всем предметам. Ее энциклопедическая цель в том, чтобы обозначить конец, телос логоса на предмет всего существующего:
("Теперь мы скажем, что наше рассуждение о Мире подошло к концу".) (92с).
Такой энциклопедический логос есть общая онтология, рассматривающая все типы бытия; она включает теологию, космологию, физиологию, психологию, зоологию. Смертные и бессмертные, человеческие и божественные, видимые и невидимые — все помещаются в ней. Это напоминание в итоге возвращает нас к различению видимого живого (например, чувственного бога) и умопостигаемого бога, чей образ можно видеть (икона, eikon). Космос суть небо (ouranos) как видимое живое и чувственный бог. Он единый и единственный в своем роде, "моногенный". Вместе с тем, дойдя до середины цикла, речь о хоре кажется все еще открытой, между чувственным и умопостигаемым, не принадлежащей ни тому, ни другому, а следовательно, ни космосу как чувственному богу, ни умопостигаемому богу, — пространству с виду пустому, несмотря на то, что оно, конечно же, не пустота. Но разве она уже не названа зияющей дырой, пропастью или щелью (chasme)? И разве не начиная с этой щели "в" ней, может состояться и иметь место расслоение между чувственным и умопостигаемым или даже между телом и душой? Не будем слишком быстро приближать эту щель называемую хорой к такому хаосу, который к тому же открывает зияние пропасти. Не станем подгонять под нее антропоморфическую форму и пафос ужаса. Но не для того, чтобы установить на ее месте безопасную опору (assise), "в точности такую, какую Гея от времен мироздания дает всякой твари с самого ее рождения, — прочную и верную опору навсегда, противопоставляя себя зияющей и бездонной дыре Хаоса"{29}. Позже мы еще столкнемся с легкой аллюзией на хору у Хайдеггера, но не с той, что в "Тимее", а вне каких-либо цитат или точных ссылок с той, что у Платона обозначает место (Ort) между сущим и бытием{30}, "разница" места между ними. Онтологически-энциклопедическое заключение "Тимея" кажется скрывает открытую щель посредине книги. То, что она могла бы скрыть, закрыв раскрытый рот почти запретного рассуждения о хоре, это не столько пропасть между умопостигаемым и чувственным, бытием и ничто, бытием и наименьшим бытием, ни даже между бытием и сущим, или, добавим, логосом и мифосом, но между всеми этими парами и другим, которое даже не будет их другим. Если и впрямь есть щель посреди книги, род пропасти, "в" которой мы стремимся думать или говорить о бездонной щели, которая могла бы быть хорой (открытость места, куда все приходит, чтобы разом занять место и осмыслить себя, — поскольку это ведь вписанные туда образы), то разве не имеет значения, что бесконечное умножение образа вглубь устанавливает определенный порядок композиции рассуждения? И что оно устанавливает все вплоть до способа думать или говорить, который должен быть похожим, но не идентичным тому, что бывает на краях щели? Может ли быть незначащим, что бесконечное умножение образа вглубь влияет на формы рассуждения на местах, в частности, политических местах, а политика мест целиком и полностью подчиняется оценке мест (посты в учреждении, регионе, области, стране) в их качестве предназначенных для типов или форм рассуждения?
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Эссе об имени"
Книги похожие на "Эссе об имени" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Жак Деррида - Эссе об имени"
Отзывы читателей о книге "Эссе об имени", комментарии и мнения людей о произведении.