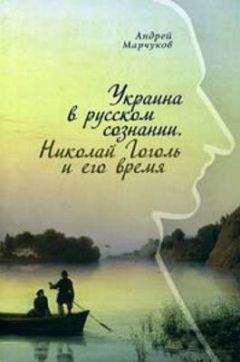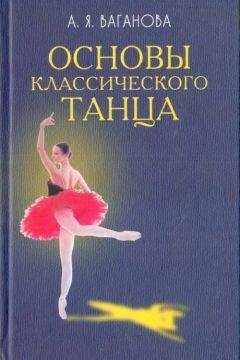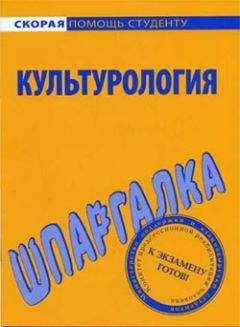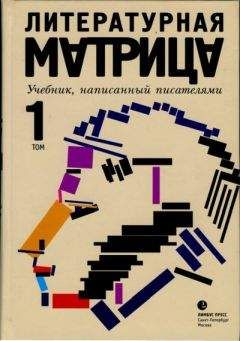Илья Бояшов - Литературная матрица. Учебник, написанный писателями. Том 2
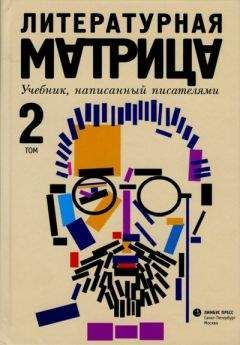
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Литературная матрица. Учебник, написанный писателями. Том 2"
Описание и краткое содержание "Литературная матрица. Учебник, написанный писателями. Том 2" читать бесплатно онлайн.
Современные писатели и поэты размышляют о русских классиках, чьи произведения входят в школьную программу по литературе.
Издание предназначено для старшеклассников, студентов вузов, а также для всех, кто интересуется классической и современной русской литературой.
В течение следующего года положение только усугублялось, поскольку лишь крайняя степень отчаяния могла заставить такого гордого и знающего себе цену писателя, как Евгений Замятин, «еретика» от литературы, обратиться к сомнительному жанру «письма вождю», который в лучшем случае подразумевает неприличную смесь дерзости и лакейства.
В июне 1931 года Замятин написал письмо Сталину с просьбой о выезде за границу. Именно в той форме, какую подразумевает «лучший случай». Начиналось письмо шуткой висельника: «Уважаемый Иосиф Виссарионович, приговоренный к высшей мере наказания автор настоящего письма обращается к Вам с просьбой о замене этой меры другою». Далее следовала осторожная дерзость: «Я знаю, что у меня есть очень неудобная привычка говорить не то, что в данный момент выгодно, а то, что мне кажется правдой». Следом — нелепая лакейская аргументация достоинств запрещенной к постановке трагедии «Аттила»: «Пьеса была прочитана на заседании художественного совета Ленинградского Большого Драматического театра, на заседании присутствовали представители 18 ленинградских заводов, и вот выдержки из их отзывов…» Тут следуют отзывы заводских представителей о трактовке в пьесе классовой борьбы в древние века и о высокой художественности пьесы, напоминающей «шекспировские произведения». Далее прилагались жалобы на небывалую «еще до тех пор в советской литературе травлю, отмеченную даже в иностранной прессе», после чего высказывалась и сама просьба о «выселении преступника из пределов страны». И так кстати готовятся в Италии и Англии постановки пьес «Блоха» и «Общество Почетных Звонарей», что «предполагаемая постановка этих пьес, вдобавок, даст мне возможность не обременять и Наркомфин просьбой о выдаче мне валюты».
Определенно, из всех произведений Замятина «письмо вождю» — самое неудачное. Впрочем, по правилам предложенной ему судьбою роли нечто подобное должно было случиться непременно, о чем будет сказано ниже.
В просьбе Замятина принял участие Горький. Похлопотал — и вскоре разрешение на выезд было получено. А для этого, между прочим, потребовалось постановление правительства. В октябре 1931 года Евгений Иванович Замятин вместе с женой покинул советскую Россию и обосновался в Париже. Там, в Париже, Ремизов увидел своего старого знакомого таким: «…затравленный, озирающийся, с запечатанным сердцем и запечатанными устами». Однако эмигрантом в том смысле, в котором принято было понимать это слово в то время, Замятин не стал — от родины и своего большевистского прошлого не отрекался, гражданство не менял, с «реакционным лагерем» непримиримой эмиграции дел не имел и первое время даже посылал деньги секретарю «Издательства писателей в Ленинграде» 3. А. Никитиной для оплаты своей ленинградской квартиры.
Как ни странно, со временем отношение к Замятину на родине улучшилось (вероятно, расстояние лечит не только любовь, но и ее противоположность) вплоть до того, что в 1934 году он был принят в новообразованный Союз писателей СССР, а в 1935-м вошел в состав советской делегации на проходившем в Париже Международном конгрессе писателей.
В Париже Замятин вчерне дописал наконец начатую им еще в 1928 году повесть о позднем Риме «Бич Божий», основанную на том же историческом материале, что и трагедия «Аттила», а также сочинил ряд киносценариев, рассказов и очерков о заметных фигурах в русской культуре того времени. Здесь, в Париже, в 1937 году Замятин и умер. «Бич Божий» вышел во Франции через год после его смерти. Роман «Мы» в полном объеме был издан на русском в 1952 году в нью-йоркском «Издательстве имени Чехова». На родине автора роман увидел свет лишь в 1988-м.
Такова формальная биографическая сторона жизни писателя Евгения Замятина. И можно было бы вполне ею удовлетвориться, но что-то не дает покоя — брезжит сквозь этот занавес иной свет, колышет его дуновение ветров иного мира. Чудится за ним брешь, проход в область символического, того таинственного пространства, которое разум человеческий превозмогает. В чем же символизм судьбы Замятина? В чем ее тайна?
Теперь — мифология. Ремизов в статье 1937 года «Стоять — негасимую свечу», посвященной памяти Евгения Замятина, написал: «Замятин умер от грудной жабы смертью Акакия Акакиевича Башмачкина, героя гоголевской „Шинели“». Как ни странно, эти прозаические слова Ремизова — ключ к оборотной, символической стороне судьбы Замятина. Гоголь имел бесспорное влияние на всю последовавшую за ним русскую литературу, но на Замятина — влияние особое. В чем заключается эта особость? Если все крупные русские писатели, по справедливому замечанию Достоевского, вышли из гоголевской «Шинели», то Замятин в нее влез. Влез невольно, и невольно прожил свою жизнь как своеобразную гоголевскую мистерию, бессознательно спроецировав историю Башмачкина на собственную судьбу и став чем-то вроде гоголевского персонажа во плоти.
Посмотрим на дело так. Первую свою литературную «шинель» Замятин справил в 1911 году, обретя собственный стиль, собственную интонацию, собственную форму в «Уездном». С тех пор по этой форме повсюду писателя Замятина и принимали. В ней он широко шагал по жизни, расталкивая лужи и талантливо светясь. Форма служила Замятину долго и исправно, соответствовала чину и вселяла в него чувство законной гордости. Но время, будь оно неладно, изнашивает все. После 1917 года старая «шинель» больше не годилась (не то чтобы истерлась и обветшала, но — да, истерлась, обветшала и перестала, что ли, греть) — залатывать изношенное бесполезно да и не по чину, форму следовало шить заново. И Замятин новую «шинель» пошил — роман «Мы» стал его блистательной обновкой. Вот только насладиться счастьем обладания ему злодеи не позволили — ухорезы-рап-повцы и запуганные ими издатели, образно говоря, сердягу грабанули, сняли с Замятина его желанную «шинель». Акакий Акакиевич, как мы помним, погоревав, отправился к значительному лицу: «Я, ваше превосходительство, осмелился утрудить потому, что секретари того… ненадежный народ…» Замятин обратился к самому значительному лицу и даже на всякий случай просуфлиро-вал ему его роль — велите, мол, уважаемый Иосиф Виссарионович, выставить меня вон. Его и выставили, и он пошел, как мы помним, «затравленный, озирающийся, с запечатанным сердцем и запечатанными устами». И в финале — грудная жаба. Но и посмертно Замятин призрачно присутствует в инициированных им антиутопиях последующих авторов и оттуда, подобно призраку Акакия Акакиевича, грозит всем значительным лицам и хватает их за воротник.
Необычный образец влияния литературы на человеческую долю. Дерзнем подумать, что тайна судьбы Замятина раскрыта. Речь не о буквальном повторении истории Башмачкина, но о мистерии длиной в полжизни. Мистерии, по масштабу переживания перекрывающей весь экстатический пафос античных прообразов — мистерий Дельфийских, Элевсинских, Орфических и Самофракийских[354]. За этот самозабвенный подвиг благодарные потомки шинель Замятину вернули.
Сергей Гандлевский
ГИБЕЛЬ С МУЗЫКОЙ
Исаак Эммануилович Бабель (1894–1940)
Есть у американского классика Германа Мелвилла повесть «Бенито Серено». Вот ее содержание в двух словах. Американец, капитан зверобойной шхуны, человек смелый и простодушный, спешит на выручку терпящему бедствие фрегату. Когда моряк поднимается на борт фрегата, его настораживает, что негры-невольники — «живой товар» — не заперты в трюме, а разгуливают по палубе запанибрата со считанными белыми матросами. Имеется и владелец корабля — испанский гранд Бенито Серено, пребывающий в странном полуобморочном состоянии. Американец дивится зловещей вольнице, царящей на корабле, и, вместе с тем, подчеркнутому раболепию чернокожих слуг, которые неотступно сопровождают каждый шаг своего господина. К концу повести проясняется подоплека происходящего: перед чужаком ломают циничную комедию — какое-то время назад рабы взбунтовались, перебили почти всю команду, а хозяина фрегата держат в смертельном страхе и не спускают с него глаз, чтобы он тайком не воззвал о помощи.
Если мы не возьмем в расчет, что в таком же вопиюще ложном положении из десятилетия в десятилетие пребывала элита России, многие высказывания этих людей на публику вызовут наше недоумение: мы, чего доброго, можем показаться себе умнее и достойнее их. (Вообще-то говоря, в заложниках была вся страна, но участь публичных лиц особенно наглядна.) Никто из них — буквально! — не чувствовал себя неприкосновенным: Всеволода Мейерхольда на допросах в НКВД били.
Кульминация повести — сцена бритья. С ужимками крайней почтительности слуга бреет господина. Присутствующий здесь же американец задает дону Бенито вопрос, ответ на который мог бы рассеять обман. И тогда раб, будто по недосмотру, слегка ранит бритвой своего хозяина. В свете этого эпизода по-другому читается строка «Власть отвратительна, как руки брадобрея…» из стихотворения Мандельштама 1930-х годов.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Литературная матрица. Учебник, написанный писателями. Том 2"
Книги похожие на "Литературная матрица. Учебник, написанный писателями. Том 2" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Илья Бояшов - Литературная матрица. Учебник, написанный писателями. Том 2"
Отзывы читателей о книге "Литературная матрица. Учебник, написанный писателями. Том 2", комментарии и мнения людей о произведении.