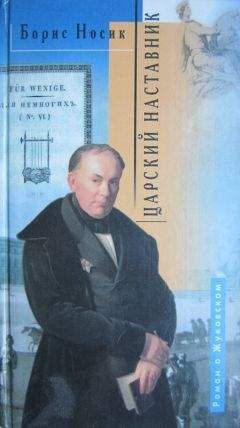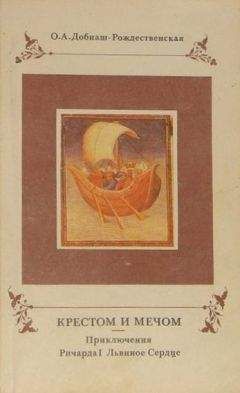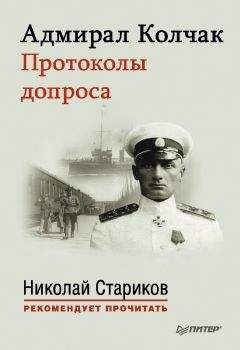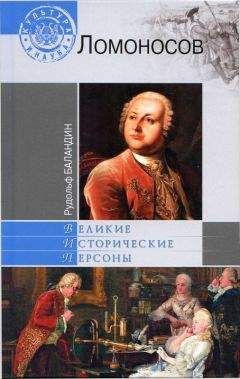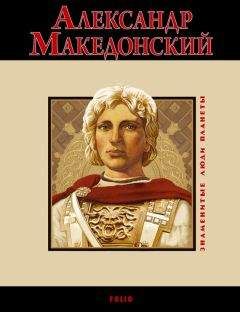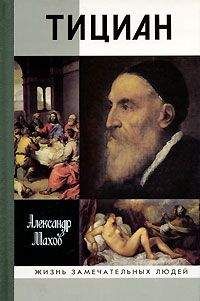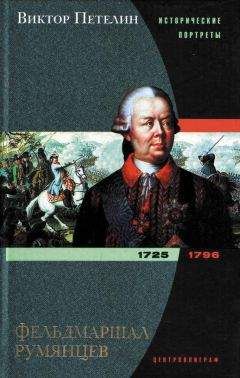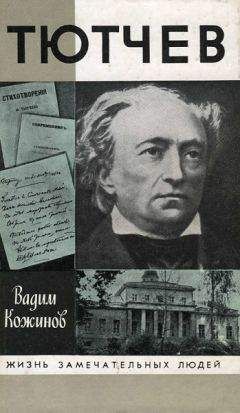Александр Морозов - Михаил Васильевич Ломоносов. 1711-1765

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Михаил Васильевич Ломоносов. 1711-1765"
Описание и краткое содержание "Михаил Васильевич Ломоносов. 1711-1765" читать бесплатно онлайн.
Фундаментальное исследование, на которое автор потратил 5 лет, со всей полнотой представляет нам не только образ одного из величайших русских ученых и поэтов, но и широчайшую картину жизни России той эпохи.
Судьба Прометея становится символическим обозначением многовековой борьбы науки и суеверия. В этой борьбе наука одерживает одну победу за другой, а суеверные представления все дальше уходят в прошлое. И Ломоносов с торжествующей насмешливостью бросает вызов лицемерам, восклицая, что уже теперь настали времена, когда
Мы пламень солнечный Стеклом здесь получаем,
И Прометею тем безбедно подражаем,
Ругаясь подлости нескладных оных врак,
Небесным без греха огнем курим табак…
Непринужденный тон дружеского послания, да еще к влиятельному И. И. Шувалову, позволил Ломоносову смело и независимо выступить в защиту научного мировоззрения и наговорить множество колкостей современному ему реакционному духовенству, с которым ему постоянно приходилось сталкиваться.
Одним из таких столкновений было затянувшееся на несколько лет дело с изданием стихотворного перевода дидактической поэмы Александра Попа «Опыт о человеке», выполненного талантливым учеником Ломоносова, академическим студентом Николаем Поповским. В августе 1753 года Ломоносов представил И. И. Шувалову перевод первой части поэмы, сделанный Поповским, заверяя одновременно, что «в нем нет ни единого стиха, который бы мною был поправлен». Перевод Должен был засвидетельствовать незаурядное дарование молодого поэта и ученого, в отношении которого Ломоносов высказывал опасение, «чтобы его в закоснении не оставили». Ломоносов хлопочет о предоставлении Поповскому места ректора в гимназии, «которое он весьма свободно управлять может, зная латинский язык совершенно и при том изрядно разумея греческой, французской и немецкой, а о искусстве в российском сей пример об нем свидетельствует». Вполне вероятно, что и сам выбор поэмы для перевода был сделан по совету Ломоносова. К концу марта 1754 года Поповский свою работу закончил, о чем Ломоносов известил Шувалова новым письмом. Но с опубликованием перевода дело застопорилось, несомненно, из-за осложнении, вызванных содержанием поэмы, где развивалась мысль о закономерности в природе и высказывалось положение, что «мирам нет пределов ни числа»:
Коль многие живут и разны существа
На каждой из планет для славы божества.
Наконец в августе 1756 года недавно открывшийся Московский университет, профессором которого был назначен Поповский, а куратором состоял И. И. Шувалов, обратился с официальным ходатайством в Синод рассмотреть поэму и сообщить свое мнение о возможности ее напечатать. Синод посвятил рассмотрению этого произведения целых два заседания и ответил недвусмысленным отказом, объявив, что «издатель» этой книги, «ни из св. Писания, ни из содержимых в православной нашей церкви узаконений ничего не заимствуя, единственно все свои мнения на естественных и натуральных понятиях полагает, присовокупляя к тому и Коперникову систему, також и мнение о множестве миров, св. Писанию совсем несогласныя». Всего Синод насчитал в поэме двадцать одно место, которое было «не без сумнительства».
Но Ломоносов и задетый за живое Шувалов не сложили рук. В феврале 1757 года, когда на приеме во дворце было двое членов Синода — Димитрий епископ Рязанский и Амвросий епископ Переяславский, Шувалов неожиданно вручил им книгу Поповского и при этом особенно просил епископа Амвросия самому просмотреть перевод. Амвросий, слывший человеком просвещенным, а главное, очень желавший угодить Шувалову, сумел провести книгу через духовную цензуру, хотя и внес для этого довольно большое число неуклюжих исправлений. Усердный архипастырь, плохо владевший новым стихом, заменил «сумнительные» места перевода виршами собственного сочинения, которые резали слух рядом с гладкими и звучными стихами Поповского. При печатании книги Поповский выделил эти вставки более крупным шрифтом, отчего они еще больше бросались в глаза, и хотел оговорить в предисловии, кому они принадлежат, но этого ему не позволили.
Постоянные гонения на передовую науку крайне раздражали Ломоносова, метнувшего, наконец, в лагерь своих врагов злую сатиру.
* * *С конца 1756 года по Петербургу стали расходиться по рукам списки стихотворной сатиры, озаглавленной «Гимн бороде»:
Не роскошной я Венере,
Не уродливой Химере
В имнах жертву воздаю:
Я похвальну песнь пою
Волосам от всех почтенным,
По груди распространенным,
Что под старость наших лет
Уважают наш совет.
Борода, особенно в допетровской Руси, знаменовала собой довольство и важность, степенность и авторитет, свидетельствовала о родовитости и солидном положении в обществе. Недаром о боярах говорили, что они решают дела, «бралы свои в землю уставя». Борода, насмешливо утверждает Ломоносов, «глазам замена»:
Мать дородства и умов,
Мать достатка и чинов…
Борода, таким образом, олицетворяет внешнюю, напускную, чаще всего мнимую значительность при полнейшем внутреннем ничтожестве:
Есть ли кто невзрачен телом,
Или в разуме незрелом,
Есть ли в скудости рожден,
Либо чином непочтен, —
Будет взрачен и рассуден,
Знатен чином и нескуден
Для великой бороды:
Таковы ее плоды!
Петр Первый настойчиво вводил брадобритие, прибегая иногда к насильственным мерам. Наконец, особым указом от 25 апреля 1722 года на всех, кто продолжал носить бороду, была наложена пеня, доходившая до пятидесяти рублей в год. Свободны от нее были только «пашенные» крестьяне и духовенство. [309]
Ношение бороды после Петра стало признаком консерватизма, слепой и упорной приверженности к старине. В семье Нарышкиных, в особом ларце на шелковой подушке, хранилась борода некоего «блаженного» старца Тимофея Архипыча, обретавшегося при дворе царицы Прасковьи и умершего в 1731 году. Старец, якобы уже после своей смерти, вручил эту бороду, явившись в «сонном видении», Настасье Нарышкиной — яростной противнице петровских новшеств.[310] С особенным фанатизмом восставали против брадобрития старообрядцы, считавшие бороду принадлежностью «ангельского облика», а утрату ее — грехом и соблазном. Старообрядцы-то и были главными плательщиками введенной Петром пошлины на ношение бород, или, как писал Ломоносов:
Борода в казне доходы
Умножает по вся годы:
Керженцам любезный брат
С радостью двойной оклад
В сбор за оную приносит
И с поклоном низким просит
В вечный пропустить покой
Безголовым с бородой.
Духовенство ж могло красоваться пышными бородами совершенно безубыточно. В него-то главным образом и метит Ломоносов.
«Борода» — это показное благочестие и святошество, которое яростно защищает всё отжившее и ополчается против смелых завоеваний науки.
Корень действий невозможных,
О, завеса мнений ложных!
восклицает Ломоносов, обращаясь к «бороде», которая становится для него символом воинствующего невежества и ожесточенного фанатизма. Ломоносов не забывает и вопрос о множестве населенных миров, столь беспокоивший Синод, представляя дело так, что и на других «мирах» фанатики и невежды воюют с наукой:
Если правда, что планеты —
Нашему подобны светы,
Конче [311] в оных мудрецы
И всех пуще там жрецы
Уверяют бородою,
Что нас нет здесь головою,
Скажет кто: мы вправду тут —
В струбе там того сожгут.
Это злое и меткое сатирическое стихотворение, да еще снабженное озорным припевом, подсмеивающимся над самим «таинством крещения», в котором не принимает участия столь благочестивая борода, вызвало бешеное раздражение духовенства. А так как в авторстве Ломоносова почти ни у кого не было сомнения, то он был вызван на заседание Синода. Ломоносов, явившись на сонмище иерархов, ко всеобщему изумлению и не вздумал отпираться. Вот как об этом «свидании» сообщает официальное доношение Синода:
«По случаю бывшего с профессором Академии наук Михаилом Ломоносовым свидания и разговора о таковом во вся непотребном сочинении, от синодальных членов рассуждаемо было, что оной пашквиль, как из слогу признавательно, не от простого, а от какого-нибудь школьного человека, а чють и не от него ль самого произошел, и что таковому сочинителю, ежели в чювство не придет и не раскается, надлежит как казни божией, так и церковной клятвы ожидать. То услыша, означенной Ломоносов исперва начал оной пашквиль шпински [312]защищать, а потом, сверх всякого чаяния, сам себя тому пашквильному сочинению автором оказал, ибо в глаза пред синодальными членами таковые ругательства и укоризны на всех духовных за бороды их произносил, каковых от доброго и сущего христианина надеяться отнюдь не можно».
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Михаил Васильевич Ломоносов. 1711-1765"
Книги похожие на "Михаил Васильевич Ломоносов. 1711-1765" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Александр Морозов - Михаил Васильевич Ломоносов. 1711-1765"
Отзывы читателей о книге "Михаил Васильевич Ломоносов. 1711-1765", комментарии и мнения людей о произведении.