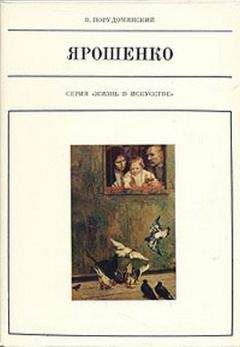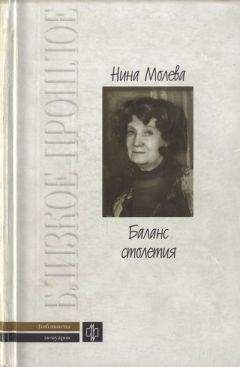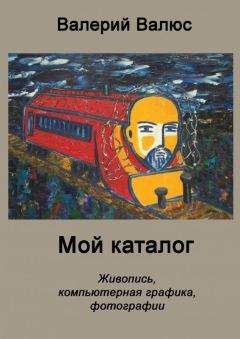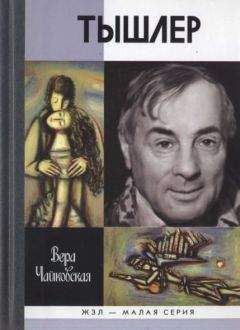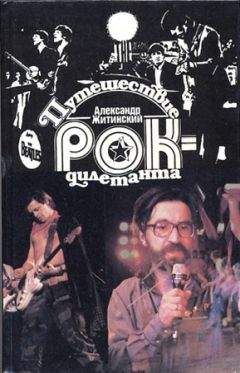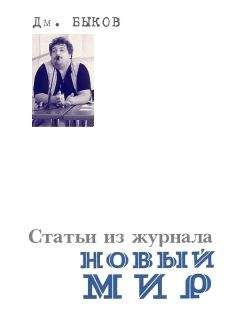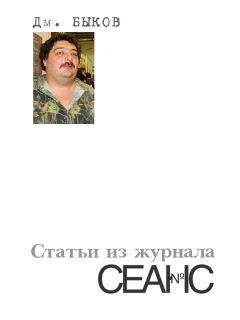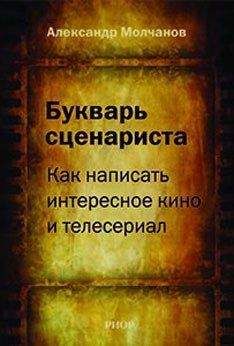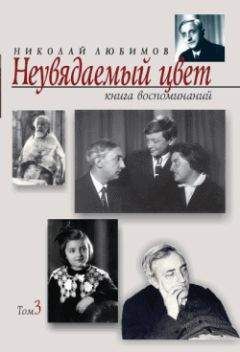Галина Белая - Дон Кихоты 20-х годов - Перевал и судьба его идей
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Дон Кихоты 20-х годов - Перевал и судьба его идей"
Описание и краткое содержание "Дон Кихоты 20-х годов - Перевал и судьба его идей" читать бесплатно онлайн.
"С луной, бают, в Питере-то большевики учены переговаривают?" - спрашивает Васька Окорок. Его мысль, разбуженная революцией, пытается оторваться от ограниченного хозяйством крестьянского мира ("Эх вы, земле-хранители, ядрена зелена", - смеется он над Вершининым). Но его товарищам эти выходы за привычные пределы непонятны, потому что - "надо, чтоб народу лишнего не расходовать, а он тут про луну. Как бронепоезд возьмем, дьявол?".
Революция в "Партизанских повестях" выступает как бы в двух ипостасях: она - конкретное, персонифицированное, материальное представление каждого человека о правде и смысле жизни; она в то же время - начало осмысления героями внешнего мира, постижения его общих, но еще скрытых от них связей.
Обращение к партизанским повестям Вс. Иванова [132] убеждает в том, что погружение в сферу быта героев обогатило и палитру писателя, и современную ему литературу, в которую он одним из первых ввел сильного и протестующего героя. "Отчетливый уклон к непосредственному, к физиологии, к звериному, к примитивному", об опасности которого применительно ко многим произведениям 20-х годов писал А. Воронский330, к сожалению, не был понят ни самим Вс. Ивановым, ни тогдашней критикой. "Естественный" герой был важен Вс. Иванову потому, что он хотел показать органичность прихода крестьянства к революции от земли, от пашни. Но сегодня ясно видно, как некритичен был Вс. Иванов к идее "человек - зверь": идея насилия казалась ему, как и многим другим в 20-е годы, закономерной принадлежностью революции, ее неотъемлемым и потому оправданным свойством.
Однако отношения между мыслью художника и действительностью на этом этапе еще крайне сложны. Освобождение текста от авторского присутствия проистекает вовсе не из сознательного устранения писателя, и оно тем более удивительно, что автор и не пытается стушеваться. Он не только связующее звено между событиями и героями, но и откровенно заявляющая о своем существовании личность. Иллюзия полной независимости героев от автора возникает из единства мировосприятия писателя и действующих лиц его повестей. "У него нет иных красок, - писал Вяч. Полонский, - кроме тех, что почерпнуты из деревенского, негородского бытия"331. Действительно, зрение писателя и его героев расположено как бы в одной плоскости: лексика, сравнения, образный строй автора и персонажей предельно сближены и не знают качественной границы. Вот писатель вводит в повесть эпизодическое лицо - мужика, арестованного солдатами бронепоезда. "Рыжебородый мужик, - пишет он, - сидел в бронепоезде неподвижно. Кровь ушла внутрь, лицо и руки ослизли, как мокрая серая глина". Сильным и крепким мужикам должен быть неприятен этот обмякший мужик; неприятен он и автору. "Когда в него стреляли, - продолжает он, - солдатам казалось, что они стреляют в труп. Поэтому, наверное, один солдат приказал до расстрела:
"А ты сапоги-то сейчас сними, а то потом возись". 06-выклым движением мужик сдеонул сапоги. [133]
Противно было видеть потом, - кончает Вс. Иванов, - как из раны того ударила кровь". "Противно" было расстреливающим мужикам, презирающим вялость, "обвыклость"; противно, это чувствует читатель, и автору. Эмоциональная дистанция между восприятием автора и героев снята.
Своеобразие отношений Вс. Иванова и его героев точно уловил Вяч. Полонский: "Анализируя его художественное зрение, его способы изображать мир, мы видим, что перед нами крестьянин, а не горожанин, поэт земли, а не индустрии. Ему близки и понятны леса, степи, с их красками и запахами, но далеки, чужды, непонятны каменные города, фабричные здания, паровозы, телефоны и электричество... В самом авторе - много от его героев: у них общий взгляд на мир. Понимают они его по-разному, но чувствуют одинаково"332.
Может быть, именно эта эмоциональная однородность повествования породила упрек в малой сопротивляемости молодых писателей, и в частности Вс. Иванова, стихийному восприятию революции. Однако это верно лишь отчасти, лишь в том смысле, что в тот период внимание писателей действительно привлекала революция в ее начальном этапе, в процессе перехода от бунта к восстанию, от стихии - к порядку. Но в то же время - нельзя не помнить об этом - писатель поднимался над этой стихийностью стремлением найти и показать читателю точки пересечения "могучего и мощного потока жизни" с "большевизмом".
В те годы Вс. Иванов еще не мог представить себе, что концепция "человек зверь" вскоре осложнит и его понимание революции, и его понимание мира, что она поставит его лицом к лицу с необходимостью решать вопрос о роли инстинктов в революции и приведет к серьезному сдвигу в мировосприятии. Но вопрос, который задавали себе его герои, - какими "ключьми двери открыть-то надо?" отражал и раздумья писателя.
Так был подготовлен переход к "Тайному тайных" (1925 - 1927), который для многих явился неожиданностью (рассказы "Пустыня Тууб-коя", "Смерть Сапеги", "Плодородие", "Поле", "Полынья", "Жизнь Смокотинина", "Ночь" и др.): "Человек ставится во весь рост. Если раньше автор подходил к нему извне, то теперь он ста[134]рается дать его извнутри, обнаружить "тайное тайных" его существа"333.
Внимательный читатель не мог не заметить в этих произведениях сдвиг от изображения социального переворота к исследованию вечной человеческой природы - слишком разителен был контраст между социальными чувствами партизан и новой позицией писателя, для которого высшей реальностью стали смерть, любовь, добро, жалость. Жизнью его героев стало управлять роковое, иррациональное, неотвратимо приводившее к гибели или глубокому трагическому заблуждению. Как писал тогда Вяч. Полонский: раньше герой Вс. Иванова чувствовал себя властелином и верил, что "в хлеб превратит камень", теперь он увидал себя "слабой игрушкой в чьих-то руках".
Жизнь оказывалась сломленной из-за одного движения женщины, перевернувшего душу ("Жизнь Смокотинина"), внезапная смерть брата и зависть к тому, что его так любила невеста, порождала "сосущую сердце злобу" ("Ночь"), "тягучие мысли о смерти" мучили человека, и неподвижная смарагдово-зеленая полынья, не отражавшая ничего, "как глаз мертвого", становилась символом тяжелого томления души ("Полынья").
Изображая сильные, роковые и смутные, неясные самим героям, но подчиняющие их себе чувства, Вс. Иванов хотел показать "тайное тайных" человека, мощь и реальность иррационального, власть чувств и эмоций, оказавшихся сильнее и мысли, и духа человека.
Критика увидела в этом не только сильные стороны. Изображая глубину чувств своих героев, считал Лежнев, Вс. Иванов оказывался внутренне склонен к физиологии, и опасность крылась не только в самодовлеющем интересе к подсознательному, но и в тенденции ограничиться этим кругом страстей, замкнуться в нем.
В цикле "Тайное тайных" Вс. Иванов - едва ли не первым в советской прозе поставил вопрос об интертности человеческих чувств, о косной силе человеческой природы, не одухотворенной силой разума, о вязкости бессознательного начала человеческой психики. В те годы не один Вс. Иванов размышлял над вопросом: что могло осложнить развитие революции? Не о том ли писали В. Маяковский, М. Зощенко, И. Эренбург? Спор о том, что [135] быстрее перестраивается с ходом истории (чувство или разум), втянул в себя всех - от Горького до критиков "Перевала". Цикл Вс. Иванова "Тайное тайных" был заметной вехой этого спора. Высоко оцененные Горьким рассказы ставили читателя лицом к лицу с реальностью "темных сил", бушующих в человеке и подчас оказывающихся сильнее его власти над ними. В рассказах не было апологетики вечной человеческой природы, за которую обрушилась на писателя рапповская критика. Но не было в них и уверенности в гармонии человека. Нельзя было не удивиться щедрой изобразительности художника, сделавшего зримой сложную материю иррационального; но нельзя было не видеть и того, что рисунок психологического состояния был ярче, чем его трактовка, его толкование, его анализ.
Живописец в нем был сильнее аналитика, и блестящие страницы, где Вс. Иванов писал о томлениях своих героев, представляли собою скорее психологический рисунок и "образ" чувств, чем художественное проникновение в его первопричину и природу.
Много позднее, в своих дневниках, Вс. Иванов признавал право писателя на "психологические загадки", на изображение "душевных страданий со сложными причинами", в которых "трудно разобраться". Не было ли это отражением собственного опыта?
Критика не случайно отмечала в 20-е годы частоту "кардинальных ломок" и "радикальных перемен" в творчестве Иванова. Подвижность душевной структуры, замеченная в Иванове М. Горьким, многолико обнаруживала себя в творчестве писателя, и уже с середины 20-х годов в его искусстве стали очевидны не только та "пластика письма" и "бунинское мастерство", что так нравилось Горькому, но и потенциально опасные, угрожающие его незаурядному живописному дару рассудочные тенденции. Их разрушительная сила самому Вс. Иванову стала ясна много позднее, хотя в течение 20-х годов А. Лежнев, например, в своих статьях не раз обращал внимание писателя на то, что непосредственность чувств часто выступает у него в борении с "расчетом".
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Дон Кихоты 20-х годов - Перевал и судьба его идей"
Книги похожие на "Дон Кихоты 20-х годов - Перевал и судьба его идей" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Галина Белая - Дон Кихоты 20-х годов - Перевал и судьба его идей"
Отзывы читателей о книге "Дон Кихоты 20-х годов - Перевал и судьба его идей", комментарии и мнения людей о произведении.