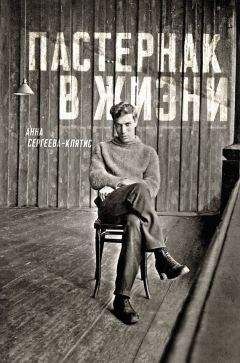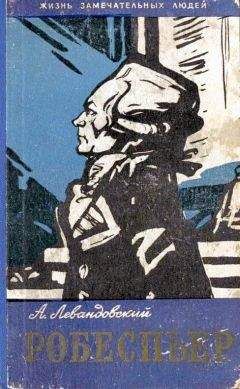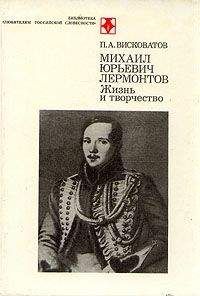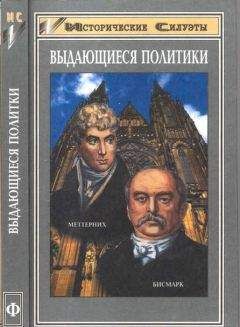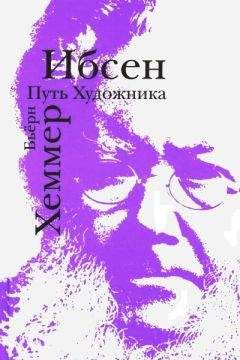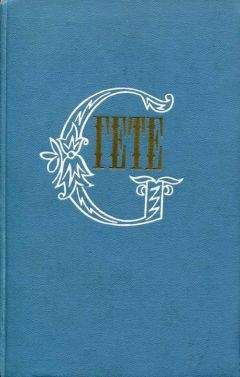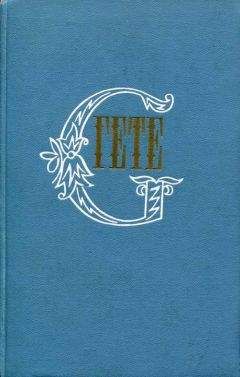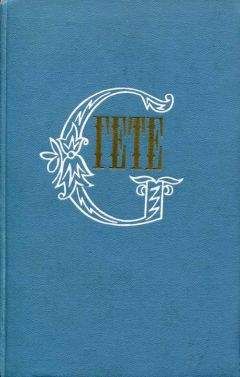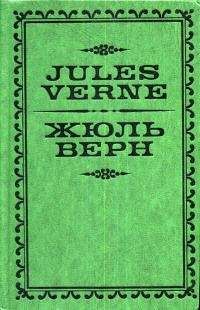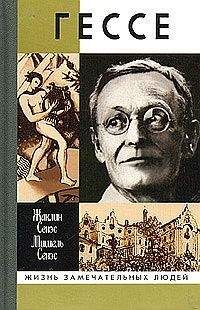Карл Отто Конради - Гёте. Жизнь и творчество. Т. 2. Итог жизни

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Гёте. Жизнь и творчество. Т. 2. Итог жизни"
Описание и краткое содержание "Гёте. Жизнь и творчество. Т. 2. Итог жизни" читать бесплатно онлайн.
Во втором томе монографии «Гёте. Жизнь и творчество» известный западногерманский литературовед Карл Отто Конради прослеживает жизненный и творческий путь великого классика от событий Французской революции 1789–1794 гг. и до смерти писателя. Автор обстоятельно интерпретирует не только самые известные произведения Гёте, но и менее значительные, что позволяет ему глубже осветить художественную эволюцию крупнейшего немецкого поэта.
В 1796 году Жан Поль снова приехал в Веймар и задержался на длительное время. Уже публикация «Геспера» в 1795 году сделала его знаменитым. Еще до своего приезда он послал Гёте, которым восхищался, «Невидимую ложу» (1793) и «Геспера, или 45 дней собачьей почты» (27 марта 1794 г. и 4 июня 1795 г.), но ответа он так и не дождался. Шиллер зачислил «Геспера» в разряд трагелафов (письмо Гёте от 12 июня 1795 г.): Гёте понравился этот намек на полукозла-полуоленя, этих мифических существ древности (письмо Шиллеру от 18 июня 1795 г.). Оба находили в «диковинном произведении» (Гёте) кое-что достойное восхищения — «воображение и настроение», отчаянные идеи (Шиллер), но также и недостатки; Гёте считал, что автору нужно «очистить свой вкус» (Шиллеру, 18 июня 1795 г. — XIII, 75), это означало не что иное, как требование большей ясности, обозримости и порядка в расплывающемся в безудержной фантазии повествовании. Авторы ксений высмеивали «китайца» в Риме:
Видел я в Риме китайца; его подавляли строенья
Древних и новых времен тяжестью мощной своей…
(Перевод С. Ошерова — 1, 239)
Это была расплата за нелестное высказывание Жан Поля о холодности и суровости великих веймарцев. Но презрительные замечания о своевольном писателе на этом не прекратились. Для Жан Поля решающее значение имел визит к Гёте 17 июня 1796 года. Приехав в Веймар, он попал в очень сложную ситуацию. С давних пор он мечтал о личном знакомстве с Гердером и лишь теперь узнал, какое взаимное отчуждение царило в хваленом Веймаре. От Гердера он услышал мало хорошего о Гёте: отношения между бывшими друзьями дали трещину. Жан Поль переступал порог дома на Фрауэнплане с надеждами и предрассудками, они должны были либо развеяться, либо подтвердиться. Его отношение к Гёте определялось тремя моментами: восхищение его творчеством; жалобы семейства Гердера на холодного, эгоцентричного, замкнутого в себе тайного советника и образ человека, сконструированного в собственных романах Жан Поля, в которых «возвышенные личности», исполненные сострадания и «всеобщей любви», противостояли эгоцентрикам, замкнувшимся в поверхностном эстетизме. В большом письме другу Кристиану Отто, через день после обеда у Гёте, Жан Поль рассказал о своих впечатлениях (18 июня 1796 г.). Сначала разочарование в Веймаре: «Уже на второй день я отбросил глупое предубеждение о больших писателях, будто бы они не такие, как все люди; здесь каждому известно, что они такие же, как и все земное, которое издалека кажется плывущей по небу светящейся луной, но которое, однако, когда встанешь на него ногами, состоит из boue de Paris[54] и реденькой зелени без золотого нимба. Суждения Гердера, Виланда, Гёте и прочих оспариваются здесь, как и всякие другие суждения, к тому же надо причислить, что три столпа нашей литературы избегают друг друга. Одним словом, я больше не дурак. Теперь я не буду уже склоняться в страхе ни перед одним великим человеком, только перед самым наидобродетельным. К Гёте я шел все же с робостью. Остгеймы, да и все другие, говорили, что он холоден ко всем людям и ко всему на земле. Остгейм говорил, что он ничем уже не восхищается, даже и самим собой, каждое слово его ровно ледяная глыба, в особенности же он холоден к чужим, которых редко допускает до себя — в нем застыла какая-то черствая гордость уроженца имперского города; только искусство, кажется, еще способно разогреть его… Я шел без теплоты, из одного любопытства. Его дом — дворец — поражает, единственный в Веймаре в итальянском вкусе, с этакими лестницами, целый пантеон картин и статуй, леденящий страх сжимает грудь — наконец вышел бог, холоден, односложен, однотонен; Кнебель, например, говорит, что французы вступают в Рим. «Гм», — произносит бог. В облике его чувствуется энергическое и страстное, взгляд светится (но без приятного огня). Скоро шампанское и разговоры об искусстве, публике и прочих предметах разгорячили его — и тут мы увидели наконец Гёте. Он говорит не так гладко и цветисто, как Гердер, зато весьма определенно и спокойно. Напоследок он прочел нам […] великолепное, еще не напечатанное стихотворение, и тут вспыхнувшее в сердце пламя растопило ледяную кору, и он пожал руку потрясенному Жан Полю. На прощание он снова протянул мне руку и звал к себе еще. Он считает, что его поэтический путь закончен. Клянусь богом, мы все же полюбим друг друга […]. А еще он ужасно много жрет; одет же весьма и весьма изысканно».
В этом письме вся оценка Гёте Жан Полем — восхищение вперемежку с предубеждениями. Жан Поль упрекал классика в том, что он проповедует абстрактный эстетический формализм; по мнению Рихтера, это происходило оттого, что Гёте как человек и художник не стремился к развитию субъективности, исполненной фантазии, и не добивался морального воздействия. Жан Поль пародировал классицистическую эстетику в «Истории моего предисловия ко второму изданию «Квинта Фикслейна»», в вымышленном разговоре между собой и советником искусства Фрайшдёрфером, который происходит по дороге из Гофа в Байрейт.
Фридрих Рихтер сделал принципом своего повествования совершенно раскованную субъективность, которая позволяла ему затрагивать, высказывать и смешивать самые разные вещи. Если для «классического» романа воспитания была характерна строгая привязанность к «внутренней истории» (Фридрих фон Бланкенбург) и повествовательные средства и композиция подчинялись заданной теме, то для Жан Поля роман определялся «широтой его формы, в которой могли быть заключены все другие формы». В «Приготовительной школе эстетики» (1803 и сл.) он спрашивает: «Почему не должно существовать поэтической энциклопедии, поэтической свободы всех поэтических свобод?» Даже для Фридриха Шлегеля, несмотря на его собственную теорию романтического романа, это требование представлялось настолько чрезмерным, что он заметил по поводу буйно разросшейся прозы Жан Поля: мол, у него «местами очень хорошие массы» растворяются «во всеобщем хаосе».
Поздний Гёте, уже размышлявший над «Годами странствий Вильгельма Мейстера», попытался определить положение Жан Поля в литературе в «Примечаниях и исследованиях к «Западно-восточному дивану»»; своеобразие Рихтера он характерным образом обосновал ссылкой на смутные условия времени: «Если по отношению к нашему столь ценимому, равно как и плодовитому, писателю мы признаем, что он […], чтобы оказать влияние на свою эпоху, должен был постоянно намекать на наше раздробленное состояние, столь бесконечно обусловленное нарушением нормальных связей в искусстве, науке, технике, политике в военные и мирные времена, то тем самым приписанные нами ему восточные черты уже в достаточной степени будут обоснованы». В подготовительных работах к автобиографии, оставшейся незавершенной, «Описанию собственной жизни», которую Жан Поль во многих отношениях замышлял как противопоставление «Поэзии и правде», содержатся формулировки, позволяющие понять, в чем он, оценивая по прошествии времени пройденный путь, видел свое отличие от чисто эстетическо-художественного уровня: «Гёте в своих путешествиях все воспринимает определенно, я же не так: у меня все романтически расплывчато. Индивидуальный момент в Фикслейне всего лишь создание искусства, он путешествует по городам, но ничего не видит в них, только чудесную местность, которая поддерживает романтическое настроение, или хорошую музыку, человека или книгу. Хотя он знает (и видит) все индивидуальные проявления жизни (например, когда путешествует), но эти подробности его не интересуют, и он о них забывает».
В 1795 году возник острый конфликт с Гердером, в особенности с Каролиной. Герцог в свое время обещал позаботиться о расходах на образование детей суперинтенданта. Неожиданно Каролина запросила большую сумму денег сразу — после того как, не уведомив об этом заранее, уже поместила своих детей в учебные заведения за границей. Гёте 30 октября 1795 года пишет Каролине подробное письмо: в резких выражениях он указывал на недопустимо требовательный тон ее письма и на необоснованность притязаний, но в конце выражал готовность дружеского участия и помощи: «Я знаю, что за выполнение возможного не питают благодарности к тому, от которого требовали невозможного; но это не помешает мне сделать для Вас и Ваших все, что в моих силах» (XIII, 85). Дружба с Гердером давно дала трещину. В «Анналах» за 1795 год Гёте писал: «Гердер чувствует себя задетым некоторым моим отдалением, которое становится все более заметным, и ничем нельзя помочь возникающему из этого неудовлетворению. Его антипатия к философии Канта, а отсюда к Йенской академии все возрастала, в то время как я благодаря отношениям с Шиллером все больше с ними срастался. Поэтому бесполезной была любая попытка восстановить прежнюю дружбу». Между Шиллером и Гердером тоже не было единогласия. Тем не менее в «Орах» в 1796 году появился диалог Гердера «Идуна», в котором обсуждался вопрос о значении скандинавской мифологии для поэзии («Что такое эта мифология? Откуда она? В какой мере она нас касается? Чем она может быть нам полезна?»); здесь отчетливо чувствовался отказ от признания образцовости греческой античности и преимущественного использования содержащегося там мифологического арсенала и содержалось указание на современное и отечественное: «Я не хочу признавать ничего другого, как только то, что каждый поэт или рассказчик может черпать из достояния чужого, далекого или отжившего народа, то есть он может использовать богатства, которые ему предоставляет этот народ и его время». Шиллер уже в письме от 4 ноября 1795 года оспаривал мысль Гердера о том, «что поэзия порождается жизнью, временем, действительностью» (Шиллер, VIII, 516). Мысли Гердера об отечественном как необходимой почве поэзии не нашли сочувствия и не могли устоять перед почитанием классической древности. Он в противоположность теоретикам и практикам идеалистического учения об искусстве и красоте оставался верным тому, что еще в 1773 году в «Переписке об Оссиане» назвал важной чертой «поэтического творчества древних и диких народов», тому, что «порождено непосредственной действительностью, непосредственной взволнованностью чувств и воображения и в то же время в нем содержится множество неожиданных переходов и скачков».[55] Бессильным протестом против Канта (при всем уважении к философу), а также против Шиллера выглядит «Каллигона» (1800), где обстоятельно и в то же время вымученно он пытается оспорить кантовское определение прекрасного как «предмета наслаждения, свободного от всякого интереса»,[56] и против шиллеровского понятия игры в эстетике.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Гёте. Жизнь и творчество. Т. 2. Итог жизни"
Книги похожие на "Гёте. Жизнь и творчество. Т. 2. Итог жизни" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Карл Отто Конради - Гёте. Жизнь и творчество. Т. 2. Итог жизни"
Отзывы читателей о книге "Гёте. Жизнь и творчество. Т. 2. Итог жизни", комментарии и мнения людей о произведении.