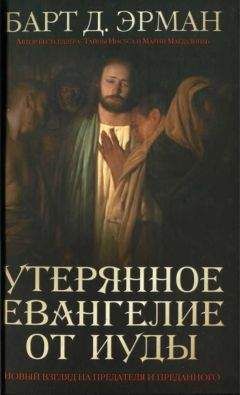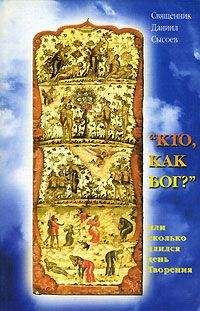Карл Барт - Введение в евангелическую теологию
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Введение в евангелическую теологию"
Описание и краткое содержание "Введение в евангелическую теологию" читать бесплатно онлайн.
Швейцарский протестантский богослов Карл Барт (1886–1968) написал эту работу на излете академической карьеры, первоначально она была конспектом его лекций. В книге автор размышляет о том, что значит быть теологом и какова природа евангелической теологии. Он считал эту книгу своей «лебединой песнью», кратким отчетом в том, чему он учил и что отстаивал в области евангелической теологии.
Книга впервые публикуется на русском языке и будет интересна студентам богословских учебных заведений, служителям церквей и всем, кого интересуют богословие и религиоведение.
«Теология — это одна из тех, обычно именуемых "науками" человеческих попыток воспринята некий предмет или предметную облаете как феномен, причем тем способом, который они задают сами, понятв их смысл, описать их во всем многообразии их существовав На обложке использован фрагмент триптиха М. Грюневальда «Распятие» репродукция которого находилась в кабинете Карла Барта.
3. Критерий подлинности и непоколебимости веры, безусловно присущей теологу, заключается не в том, что это какая-то особенно крепкая, глубокая, пламенная вера. К делу не относится, что вера может быть и часто бывает слабой, тщедушной, колеблемой ветрами жизни и событий. Ибо, если согласно Евангелию веры размером с горчичное зерно довольно, чтобы переместить гору [16], то ее будет довольно и для того, чтобы не только сделать возможным плодотворное богопознание, а значит, теологию, но и осуществить их. Способным к познанию и, следовательно, способным существовать по-богословски человек становится потому, что в своей малой вере, силою которой в этом смысле не сделать ничего [17], он пребывает устремленным и каждый раз заново устремляется к Тому, для веры в Кого он освобожден и потому свободен.
4. «Я слышу весть, но мне недостает веры!» Да, но кому ее достает? Кто же может верить? Безусловно, не тот верит, кто считает, что он «имеет» веру, а значит, ему ее достает, и он «может» верить. Кто верит, тот знает и исповедует, что сам — «собственным разумом и силою» [18]- вовсе не способен верить. Он сможет это сделать, будучи призван и просвещен Святым Духом, а потому не понимая самого себя, до последней степени изумляясь самому себе, — перед лицом по-прежнему живущего в нем и восстающего неверия. «Верую, Господи!» — это высказывание всегда будет сопровождаться прошением: «Помоги моему неверию» [19]. Так что он не станет думать, будто имеет веру, но, как израильтяне каждое утро надеялись снова найти в пустыне манну, так он, заново принимая веру, каждое утро заново и всерьез будет осуществлять ее. Так что вопрос о том, не находится ли вера, событие веры в чьей-либо компетенции, — легкомысленный вопрос. Осуществление веры не находится ни в чьей компетенции. Но вот как звучит серьезный вопрос: допустимо и терпимо ли, чтобы некто, кому указывают на происходящее — и касающееся непосредственно его — дело Божье, на произнесенное — тоже непосредственно для него — Слово Божье и на действующую тоже непосредственно на него животворную силу Духа, оставался при этом беспросветным: «Мне недостает веры!»? Или же он не станет кокетничать своим неверием и пожелает жить в свободе, которая и ему тоже открыта, ему тоже дана, и тем самым захочет стать человеком, которому будут присущи не только желание, но и способность к intellectus fidei, a значит, и к своему вкладу в богословскую науку; захочет стать человеком, который истинно и действенно удивлен, затронут и обязан живому Богу и потому пригоден для такого начинания?
Часть III Угроза теологии
Лекция 10 Одиночество
Мы переходим к третьему ряду рассуждений. Здесь сцена неизбежно затемняется. Ибо введение в евангелическую теологию подразумевает также, что мы отдаем себе отчет — вдумчиво и без излишней драматизации, но с полной откровенностью — в серьезной опасности, какой подвергается это начинание уже в своем замысле и тем более во всех деталях своей реализации. То, что наше определение теологии как «радостной науки» не соответствует, а часто противоречит практике теологической экзистенции и, во всяком случае, не лежит на поверхности, — это имеет свои основания. То, что существует множество теологии, которые лишь с трудом и часто безуспешно пытаются скрыть сидящие в них (если не в самой глубине, то все же достаточно глубоко) беспокойство, неуверенность и удрученность перед лицом собственного дела, — хотя такого явления и не должно быть, — имеет свою первопричину не только в личностях, но и в самом существе дела. При том, что это хорошее, — если вдуматься, самое хорошее, — дело, каким только может заниматься человек, все же нельзя ни отрицать, ни замалчивать того, что оно ставит человека в ситуацию стесненности, которая настолько тяжела, что сокрушение доктора Фауста о том, что «увы! с усердьем и трудом и в богословье я проник» [1], хотя и может огорчить, но должно быть всерьез осмыслено. А значит, нужно говорить и о постигающей теологию, — а вместе с ней, согласно нашим последним утверждениям, также удивленного, затронутого, обязанного, призванного к вере теолога, — не абсолютной, но и в своей относительности весьма радикальной постановке под вопрос, говорить в тщательно подобранных минорных тонах, но, в конечном счете, не избегая и перехода в приглушенный мажор. Говорить, потому что этого не избежать.
Кто приступает к занятиям теологией, тот сразу и неминуемо вновь и вновь оказывается, — и об этом сегодня должна идти речь, — в странном и очень тягостном одиночестве. «Предоставь другим идти широкими, светлыми, многолюдными путями», — охотно распевали мы по нашему старому сборнику церковных песнопений вслед за Новалисом; эти слова могли бы недурно звучать и как лозунг теологии. Но все же это было бы не совсем честно: ведь если человек не родился нелюдимым сычом, разве не хочет он стать одним из большого собрания людей и, опираясь на прямое или косвенное признание и участие всех, делать дело, убедительное в глазах всех или хотя бы многих? Теолог же, как правило, вынужден мириться с тем, что его дело — не только в так называемом «миру», но и в Церкви — совершается в определенном уединении (за «китайской стеной», как очень быстро начинают об этом говорить). Чтобы зримо представить это, вспомним о том, как venerabilis ordo Theologorum [2]обычно существует в наших университетах, в большинстве которых теологический факультет самый утонченный, но и, что показательно, самый малый; во всяком случае, по сравнению со своими более внушительным собратьями он по численности и оснащенности оттеснен далеко на обочину, в тень. Вспомним, прежде всего, об особенно патетичной в своем одиночестве фигуре пастора, о том, как он одиноко, словно чужой, в жуткой обособленности из-за оставшегося с прежних времен священнического ореола живет среди всех членов своей городской или сельской общины. Там он в лучшем случае бывает окружен маленькой группой особенно усердных прихожан. Но именно в возложенной на него заботе об экспликации [3]и аппликации [4]библейской вести, а значит, именно в своем богословском труде, он не может рассчитывать ни на чью помощь, кроме помощи кого-нибудь из коллег, не слишком далеких от него по месту жительства и образу мыслей. Вспомним об уже количественно столь странном соотношении между тем, что следует донести до слуха людей, — насколько они хотят и могут это услышать, — в немногие часы церковной проповеди и наставления, и тем, что непрерывным потоком изливается на них через газеты, радио и телевидение. И это — лишь симптомы вновь и вновь прорывающейся, несмотря на все противоположные толкования, жесты и старания (и на смехотворные разговоры о «притязаниях Церкви на публичность»), изоляции — изоляции богословского устремления, богословской задачи и богословского усилия. Такую изоляцию следует выдерживать и переносить, а это не всегда легко — выдерживать ее с достоинством и в бодрости духа.
Выдержать ее отнюдь не легко, но трудно именно потому, что, как представляется, сущности теологии вовсе не соответствует, но, скорее, в корне противоречит деятельность, в которой недостает публичности или которая, возможно, даже вообще ее исключает. Религия может быть частным делом, но дело и Слово Божье как таковое, а значит, и предмет теологии, есть свершившееся в Иисусе Христе примирение мира с Богом и, следовательно, радикальнейшее изменение ситуации всецелого человечества и откровение об этом, данное всем людям. Значит, само по себе оно есть дело всеохватное, всеобщее. Что было сказано на ухо, то должно быть проповедано с кровлей [5].
И не нужно ли сказать, что и наоборот: сущности любой человеческой науки не соответствует лишь терпеть подле себя теологию, словно золушку, сидящую в своем углу? Не должен ли предмет теологии быть архетипом и образцом оригинальности и авторитетности предметов всех наук, а принятый в теологии приоритет рациональности самого предмета по отношению к его человеческому познанию — быть архетипом и образцом также их мышления и речи? Можно ли иначе понять особый характер теологии среди всех прочих наук, кроме как исходя из того, что она никоим образом не вправе терпеть поражение там, где другие науки в этом отношении кажутся потерпевшими поражение. Поэтому теология в некотором роде может служить для них средством скорой помощи, между тем как, по существу, всякая наука как таковая должна была бы быть теологией и потому сделать излишней теологию как отдельную науку. Не должно ли существование теологии в такой изоляции, не должна ли уже особостъ ее существования (с точки зрения ее сущности и с точки зрения сущности всех прочих наук) быть в итоге понята и обозначена как аномальный факт? Так что столь впечатляющая попытка Пауля Тиллиха, предпринятая в наши дни, становится понятной по крайней мере в своих намерениях: интегрировать теологию в представленные философией прочие науки, более того, в культуру вообще, — и наоборот, культуру философию и прочие науки в теологию, — через неразрывное корреляционное соотношение вопроса и ответа [6]. Попытка снять двойственность гетерономного и автономного в единстве теономного мышления [7]. Только бы философ как таковой пожелал быть и теологом! По Тиллиху, он это может и должен. Но, прежде всего, только бы теолог как таковой пожелал быть также и философом! По Тиллиху, он это может и должен. Что за решения! Что за аспекты! «О, если бы мы были там!» [8]
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Введение в евангелическую теологию"
Книги похожие на "Введение в евангелическую теологию" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Карл Барт - Введение в евангелическую теологию"
Отзывы читателей о книге "Введение в евангелическую теологию", комментарии и мнения людей о произведении.