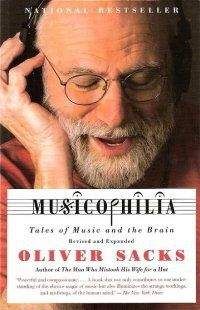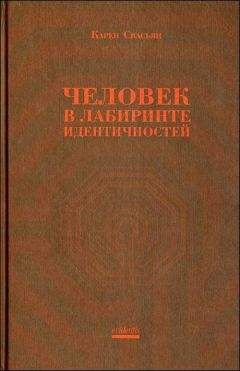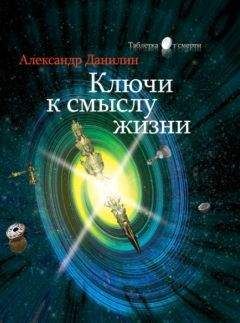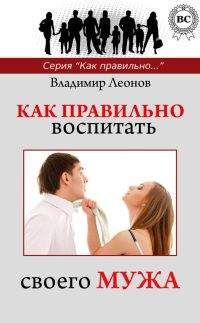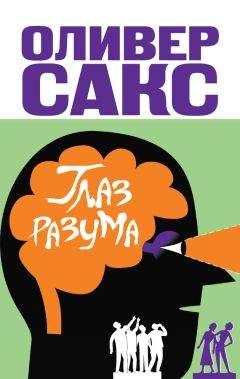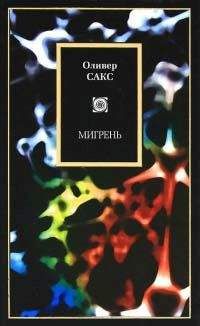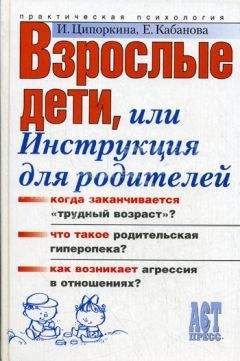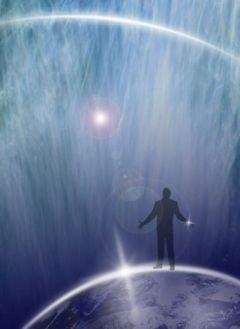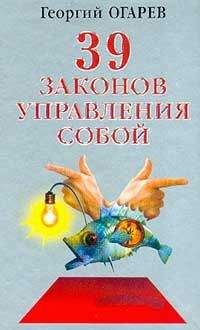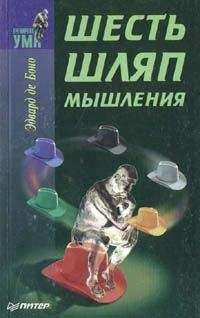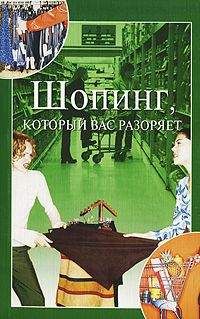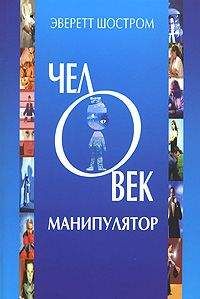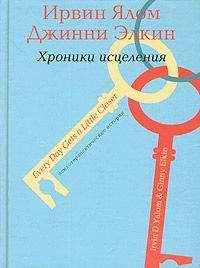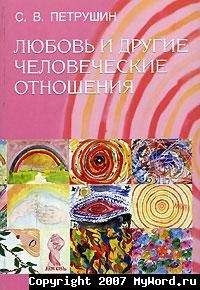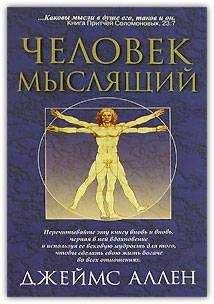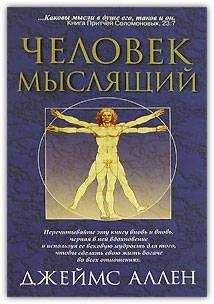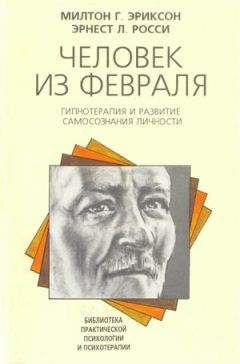Оливер Сакс - «Человек, который принял жену за шляпу», и другие истории из врачебной практики
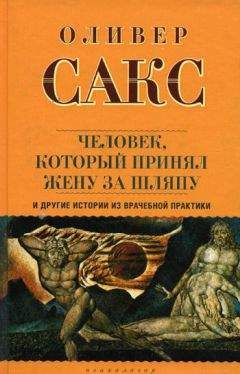
Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "«Человек, который принял жену за шляпу», и другие истории из врачебной практики"
Описание и краткое содержание "«Человек, который принял жену за шляпу», и другие истории из врачебной практики" читать бесплатно онлайн.
Оливер Сакс – известный британский невролог и нейропсихолог, автор ряда популярных книг, переведенных на двадцать языков, две из которых – «Человек, который принял жену за шляпу» и «Антрополог на Марсе» – стали международными бестселлерами.
«Человек, который принял жену за шляпу» – книга, написанная Оливером Саксом еще в 1971 году и выдержавшая с тех пор около десяти переизданий только на английском языке, не говоря уже о многочисленных переводах, – это истории современных людей, пытающихся побороть серьезные и необычные нарушения психики и борющихся за выживание в условиях, совершенно невообразимых для здоровых людей, – и о мистиках прошлого, одержимых видениями, которые современная наука уверенно диагностирует как проявление тяжелых неврозов. Странные, труднопостижимые отношения между мозгом и сознанием объясняются доступно, живо и интересно.
– Трудно сказать… – П. выглядел озадаченным. – Тут нет простых симметрий, как у правильных многогранников, хотя, возможно, симметрия этого объекта – более высокого уровня… Это может быть растением или цветком.
– Может быть? – осведомился я.
– Может быть, – подтвердил он.
– А вы понюхайте, – предложил я, и это опять его озадачило, как если бы я попросил его понюхать симметрию высокого уровня.
Из вежливости он все же решился последовать моему совету, поднес объект к носу – и словно ожил.
– Великолепно! – воскликнул он. – Ранняя роза. Божественный аромат!.. – И стал напевать «Die Rose, die Lillie…»
Реальность, подумал я, доступна не только зрению, но и нюху…
Я решил провести еще один, последний эксперимент. Была ранняя весна, погода стояла холодная, и я пришел в пальто и перчатках, скинув их при входе на диван. Взяв одну из перчаток, я показал ее П.
– Что это?
– Позвольте взглянуть, – попросил П. и, взяв перчатку, стал изучать ее таким же образом, как раньше геометрические фигуры.
– Непрерывная, свернутая на себя поверхность, – заявил он наконец. – И вроде бы тут имеется, – он поколебался, – пять… ну, словом… кармашков.
– Так, – подтвердил я. – Вы дали описание. А теперь скажите, что же это такое.
– Что-то вроде мешочка…
– Правильно, – сказал я, – и что же туда кладут?
– Кладут все, что влезает! – рассмеялся П. – Есть множество вариантов. Это может быть, например, кошелек для мелочи, для монет пяти разных размеров. Не исключено также…
Я прервал этот бред:
– И что, не узнаете? А вам не кажется, что туда может поместиться какая-нибудь часть вашего тела?
Лицо его не озарилось ни малейшей искрой узнавания[13].
Никакой ребенок не смог бы усмотреть и описать «непрерывную, свернутую на себя поверхность», но даже младенец немедленно признал бы в ней знакомый, подходящий к руке предмет. П. же не признал – он не разглядел в перчатке ничего знакомого. Визуально профессор блуждал среди безжизненных абстракций. Для него не существовало зримого мира – в том же смысле, в каком у него не было зримого «Я». Он мог говорить о вещах, но не видел их в лицо. Хьюлингс Джексон, обсуждая пациентов с афазией и поражениями левого полушария мозга, говорит, что у них утрачена способность к «абстрактному» и «пропозициональному» мышлению, и сравнивает их с собаками (точнее, он сравнивает собак с афатиками). В случае П. произошло обратное: он функционировал в точности как вычислительная машина. И дело не только в том, что, подобно компьютеру, он оставался глубоко безразличен к зримому миру, – нет, он и мыслил мир как компьютер, опираясь на ключевые детали и схематические отношения. Он мог идентифицировать схему, как при составлении фоторобота, но совершенно не ухватывал стоящей за ней реальности.
Однако обследование было еще не закончено. Все проведенные тесты пока ничего не рассказали мне о внутренней картине мира П. Нужно было проверить, затронуты ли его зрительная память и воображение. Я попросил профессора вообразить, что он подходит к одной из наших площадей с севера. Он должен был мысленно пересечь ее и рассказать мне, мимо каких зданий проходит. П. перечислил здания с правой стороны, но не упомянул ни одного с левой. Тогда я попросил его представить, что он выходит на эту же площадь с юга. Он опять перечислил только здания, которые находились справа, хотя минуту назад именно их пропустил. А вот здания, которые он только что «видел», сейчас упомянуты не были. Становилось понятно, что проблемы левосторонности, дефициты зрительного поля носили в его случае и внешний, и внутренний характер, отсекая не только часть воспринимаемого мира, но и половину зрительной памяти.
А как обстояли дела на более высоком уровне внутренней визуализации? Вспомнив, с какой почти галлюцинаторной яркостью видит Толстой своих персонажей, я стал расспрашивать П. об «Анне Карениной». Он легко восстанавливал события романа, хорошо справлялся с сюжетом, но полностью пропускал внешние характеристики и описания. Он помнил слова персонажей, но не их лица. Обладая редкой памятью, он по моей просьбе мог почти дословно цитировать описательные фрагменты, однако было ясно, что они лишены для него всякого содержания, какой бы то ни было чувственной, образной и эмоциональной реальности. Его агнозия, судя по всему, была также и внутренней[14].
Заметим, что все вышеупомянутое касалось только определенных типов визуализации. Способность представлять лица и описательно-драматические эпизоды была глубоко нарушена, почти отсутствовала, но при этом способность к визуализации схем сохранилась и, возможно, даже усилилась. Когда, к примеру, я предложил П. сыграть в шахматы вслепую, он без труда представил в уме доску и ходы и легко меня разгромил.
Лурия писал о Засецком[15], что тот полностью разучился играть в игры, но сохранил способность живого – эмоционального – воображения. Засецкий и П. жили, конечно, в мирах-антиподах, однако самое печальное различие между ними в том, что, по словам Лурии, Засецкий «боролся за возвращение утраченных способностей с неукротимым упорством обреченного», тогда как П. ни за что не боролся: он не понимал, что именно утратил, и вообще не осознавал утраты. И тут встает вопрос: чья участь трагичнее, кто более обречен – знавший или не знавший?..
Наконец обследование закончилось, и миссис П. пригласила нас к столу, где все уже было накрыто для кофе и красовался аппетитнейший набор маленьких пирожных. Вполголоса что-то напевая, П. жадно на них набросился. Не задумываясь, быстро, плавно, мелодично, он пододвигал к себе тарелки и блюда, подхватывал одно, другое – все в полноводном журчащем потоке, во вкусной песне еды, – как вдруг внезапно поток этот был прерван громким, настойчивым стуком в дверь. Испуганно отшатнувшись от еды, на полном ходу остановленный чуждым вторжением, П. замер за столом с недоумевающим, слепо-безучастным выражением на лице. Он смотрел, но больше не видел стола, не видел приготовленных для него пирожных… Прерывая паузу, жена профессора стала разливать кофе; ароматный запах пощекотал ему ноздри и вернул к реальности. Мелодия застолья зазвучала опять…
Как даются ему повседневные действия? – думал я. Что происходит, когда он одевается, идет в туалет, принимает ванну?
Я прошел за его женой в кухню и спросил, каким образом ее мужу удается, к примеру, одеться.
– Это как с едой, – объяснила она. – Я кладу его вещи на одни и те же места, и он, напевая, без труда одевается. Он все делает напевая. Но если его прервать, он теряет нить и замирает – не узнает одежды, не узнает даже собственного тела. Вот почему он все время поет. У него есть песня для еды, для одевания, для ванны – для всего. Он совершенно беспомощен, пока не сочинит песню.
Во время разговора мое внимание привлекли висевшие на стенах картины.
– Да, – сказала миссис П., – у него талант не только к пению, но и к живописи. Консерватория каждый год устраивает его выставки.
Картины оказались развешены в хронологическом порядке, и я с любопытством стал их разглядывать. Все ранние работы П. были реалистичны и натуралистичны, живо передавали настроение и атмосферу, отличаясь при этом тонкой проработкой узнаваемых, конкретных деталей. Позже, с годами, из них стали постепенно уходить жизненность и конкретность, а взамен появились абстрактные и даже геометрические и кубистические мотивы. Наконец, в последних работах, казалось, исчезал всякий смысл, и оставались лишь хаотические линии и пятна.
Я поделился своими наблюдениями с миссис П.
– Ах, вы, врачи – ужасные обыватели! – воскликнула она в ответ. – Неужели вы не видите художественного развития в том, как он постепенно отказывается от реализма ранних лет и переходит к абстракции?
Нет, тут совсем другое, подумал я (но не стал убеждать в этом бедную миссис П.): профессор действительно перешел от реализма к абстракции, однако развитие это осуществлялось не самим художником, а его патологией и двигалось в сторону глубокой зрительной агнозии, при которой разрушаются все способности к образному представлению и уходит переживание конкретной, чувственной реальности. Находившееся передо мной собрание картин складывалось в трагический анамнез болезни и в этом качестве было фактом неврологии, а не искусства.
И все же, думал я, не права ли она хотя бы отчасти? Между силами патологии и творчества происходит борьба, но, как ни странно, возможно и тайное согласие. Похоже, примерно до середины кубистического периода П. патологическое и творческое начала развивались параллельно, и их взаимодействие порождало оригинальную форму. Вполне вероятно, что, теряя в конкретном, он приобретал в абстрактном, лучше чувствуя структурные элементы линии, границы, контура и развивая в себе некую сходную с дарованием Пикассо способность видеть и воспроизводить абстрактную организацию, заложенную в конкретном, но скрытую от «нормального» глаза… Впрочем, боюсь, в последних его картинах остались лишь хаос и агнозия.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "«Человек, который принял жену за шляпу», и другие истории из врачебной практики"
Книги похожие на "«Человек, который принял жену за шляпу», и другие истории из врачебной практики" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Оливер Сакс - «Человек, который принял жену за шляпу», и другие истории из врачебной практики"
Отзывы читателей о книге "«Человек, который принял жену за шляпу», и другие истории из врачебной практики", комментарии и мнения людей о произведении.