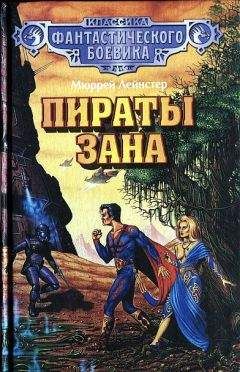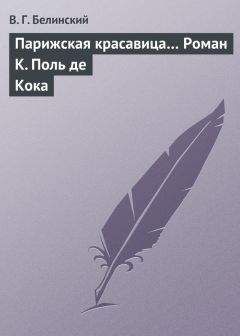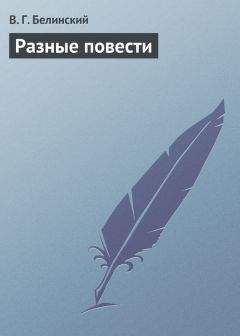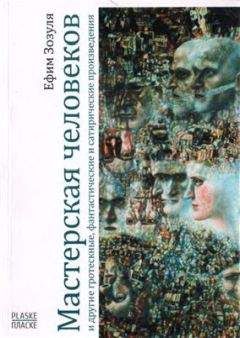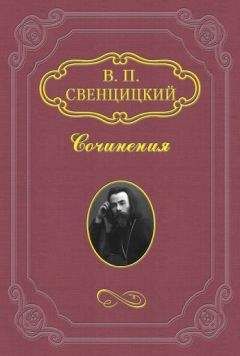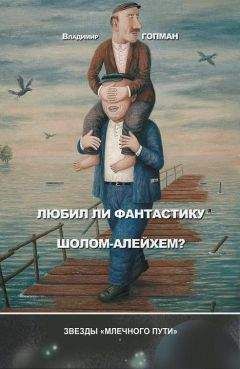Борис Аверин - Владимир Набоков: pro et contra

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Владимир Набоков: pro et contra"
Описание и краткое содержание "Владимир Набоков: pro et contra" читать бесплатно онлайн.
В первый том двухтомника «В. В. Набоков: pro et contra» вошли избранные тексты В. Набокова, статьи эмигрантских критиков и исследования современных специалистов, которые могут быть полезны и интересны как для изучающих творчество В. Набокова, так и широкого круга читателей.
Поэт освобождает звуки из хаоса, приводит их в гармонию, придает им форму. Ритм стиха таится в стихии речи, он должен быть услышан и подхвачен, выявлен и оформлен. Неподхваченная мелодия исчезает в пучине речи. Живая, изменчивая материя языка должна быть оформлена Поэтом, скована метром и огранена рифмой, выстроена в строки поэмы.
Энтомолог Набоков, определяющий и описывающий новый вид бабочек, — не ученый педант, засушенный лучше его сухих насекомых и пропахший нафталином, энтомолог — Поэт. Он определяет, он оформляет Хаос, он дает Имена, нарекая формы на «божественной латыни».
I found it in a legendary land
all rocks and lavender and tufted grass,
where it was settled on some sodden sand,
hard by the torrent of a mountain pass.
<…>
I found it and named it, being versed
in taxonomic Latin; thus became
godfather to an insect and its first
describer — and I want no other fame.
Wide open on its pin (though fast asleep),
and safe from creeping relatives and rust,
in the stronghold where we keep
type specimens it will transend its dust
Dark pictures, thrones, the stones that pilgrims kiss,
poems that take a thousand years to die
but ape the immortality of this
red label on a little butterfly —
написал Набоков в стихотворении «A Discovery» об открытии им формы Lycaeides, неизвестной науке. Красной этикеткой, бессмертию которой, по его словам, могут лишь подражать картины и стихи, в коллекциях музеев отмечаются экземпляры, но которым описаны новые формы.
В пыли семейных библиотек и усадебных чердаков, между картин, старых вещей и стихов, «не умирающих тысячелетия», Набоков в детстве открыл для себя волшебный мир энтомологии.
«В петербургском доме была у отца большая библиотека… Мне было восемь лет, когда, роясь там… я нашел чудные книги, приобретенные бабушкой Рукавишниковой в те дни, когда ее детям давали частные уроки зоолог Шимкевич и другие знаменитости… тут были и прелестные изображения суринамских насекомых в труде Марии Сибиллы Мериан (1647–1717) и Die Schmetterlinge (Эрланген, 1777) гениального Эспера. Еще сильнее волновали меня работы, относящиеся ко второй половине девятнадцатого столетия — Natural History of British Butterflies and Moths Ньюмэна, Die Gross Schmetterlinge Europas Гофмана, замечательные Mémoires великого князя Николая Михайловича и его сотрудников, посвященные русско-азиатским бабочкам, с несравненно-прекрасными иллюстрациями кисти Кавригина, Рыбакова, Ланга…»[295].
Интерес быстро обрел прочную основу. Упоительное чтение, сбор бабочек и беседы с энтомологами создали основу всей его жизни. «Я всегда мечтал о долгой и волнующей карьере незаметного куратора чешуекрылых в большом музее», — скажет он в интервью 1964 г.[296]
Нельзя не привести суждение Набокова об энтомологии XX в. и переменах в биологии, которые он видел.
«Уже отроком я зачитывался энтомологическими журналами, особенно английскими, которые тогда были лучшими в мире. То было время, когда систематика подвергалась коренным сдвигам. До того, с середины прошлого столетия, энтомология в Европе приобрела великую простоту и точность, ставши хорошо поставленным делом, которым заведовали немцы: верховный жрец, знаменитый Штаудингер, стоял во главе и крупнейшей из фирм, торговавших насекомыми, и в его интересах было не усложнять определений бабочек… между тем как он и его приверженцы консервативно держались видовых и родовых названий, освященных долголетним употреблением, и классифицировали бабочек лишь по признакам, доступным голому глазу любителя, англо-американские работники вводили номенклатурные перемены, вытекающие из строгого применения закона приоритета, и перемены таксономические, основанные на кропотливом изучении сложных органов под микроскопом. Немцы силились не замечать новых течений и продолжали снижать энтомологию едва ли не до уровня филателии. Забота штаудингерьянцев о „рядовом собирателе“, которого не следует заставлять препарировать, до смешного похожа на то, как современные издатели романов пестуют „рядового читателя“, которого не следует заставлять думать.
Обозначилась о ту пору и другая, более общая перемена. Викторианское и штаудингеровское понятие о виде как о продукте эволюции, подаваемом природой коллекционеру на квадратном подносе, т. е. как о чем-то замкнутом и сплошном по составу, с кое-какими разновидностями (полярными, островными, горными), сменилась новым понятием о многообразном, текучем, тающем по краям виде, органически состоящем из географических рас (подвидов); иначе говоря, вид включил разновидности. Этими более гибкими приемами классификации лучше выражалась эволюционная сторона дела, и одновременно с этим биологические исследования чешуекрылых были усовершенствованы до неслыханной тонкости — и заводили в те тупики природы, где нам мерещится основная тайна ее»[297].
Работы о двух «текущих, тающих по краям видах» бабочек рода Lycaeides[298] выполнены были Набоковым в Музее сравнительной зоологии Гарвардского университета с 1941 по 1948 г. Набоков не прошел стороной и споры о концепции вида и эволюционной теории, кипевшие в то время в Америке. Новые теории, сводившие явления вида к системе биологически изолированных популяций, отличающихся лишь статистически, были неприемлемы для поэта и ценителя формы. Сущность вида не в статистике или генетической изоляции, а в эстетическом своеобразии. Биологическая теория кажется ему «зауженной… насильственно натянутой на концепцию вида», которая «изуродована» пренебрежением к чистой морфологии[299]. «В конце концов, — воскликнул Набоков однажды, — естествознание ответственно перед философией — не перед статистикой»[300].
Подвижную изменчивость «текущих» видов надо таксономически оформить, выявить внутренний ритм природы и выразить его в рядах и группах так, чтобы они имели эстетическое совершенство. Изменчивость бабочек имеет «повторы, ритм, размах и выражение». Говоря о ритме, Набоков имеет в виду появление и исчезновение определенных форм в системе вида: «пропуски [форм], разрывы, слияния и синкопированные толчки создают в каждом виде ритм изменчивости, отличающий его от другого»[301].
В набоковском анализе изменчивости и сравнениях разных видов и родов бабочек просвечивает теория литературы и поэзии. Повторы в близких видах напоминают ассонансы и аллитерации. Наконец вся система рода, в которой есть несколько видов, сложенных из географических рядов рас, в описании Набокова напоминает нам сложение стиха из нескольких катренов, строки которых перекликаются звуковыми повторами.
Восхищенный взгляд поэта, хищный взгляд охотника, заносящего сачок над бабочкой, и ухищренный взгляд морфолога имеют много общего. В этом случае это один и тот же внимательный взгляд Набокова, для которого природа и искусство имеют много общего. О «дарвиновских» объяснениях мимикрии бабочек и своем отношении к ним он писал:
«…защитная уловка доведена до такой точки художественной изощренности, которая находится далеко за пределами того, что способен оценить мозг гипотетического врага — птицы, что ли, или ящерицы: обманывать, значит, некого, кроме разве начинающего натуралиста. Таким образом, мальчиком, я уже находил в природе то сложное и „бесполезное“, которое я позже искал в другом восхитительном обмане — в искусстве»[302].
Глаз наблюдателя и охотника, глаз натуралиста Набокова увидел в нашей жизни объекты для литературной мимикрии — воспроизведении жизни на страницах прозы. Внимательность натуралиста преобразилась в выпуклость натурализма и точность прозаического слова.
Читатель, открывший для себя Набокова, бывает поражен вдвойне. Он задыхается от восторга, следуя за течением текста по всем поворотам и перекатам стилистики, повторяя про себя отдельные фразы и сочетания слов. И тут же задыхается от шока и гнева, читая описания людей и их поведения, режущие глаз какой-то невозможной и противоестественной для большинства неприкрытостью естественных деталей и мотивов действий.
Не только шумно знаменитая «Лолита», но и другие книги Набокова отличаются этой беспощадной ясностью письма. Такими нагими выходят на сцену персонажи этих книг, что разве Федор Константинович Годунов-Чердынцев благодаря молодости и загару не постеснялся бы увидеть себя глазами автора.
Человек — существо эгоцентричное, и читательский шок обычно вызван тем, что читающий бессознательно примеряет на себя набоковский взгляд и видит все свои черты, прорисованные жесткой рукой мастера. «Нет, нет!» — кричит читатель, стараясь избавиться от наваждения. «Так нельзя писать, так нельзя видеть людей, какая гадость, где же душа?!» — судорожно пытаясь завернуться в одежды сурового критика после неловкой наготы рентгеноскопического обследования, когда видна не только внешность плоти, но и ребра, сердце, легкие, печень… А душа не видна, хотя каждый читатель полагает, что у него есть душа.
Такое же чувство чудовищного разоблачения испытывает читатель книги «The naked ape» Десмонда Морриса. Английский зоолог Моррис начинает свою книгу с того, что он изучал многие виды обезьян и теперь считает себя вправе написать книгу еще об одном виде обезьян, тем более что он прожил среди них всю свою жизнь и сам принадлежит к этому виду. Вся жизнь человека, дружба и работа, семья и любовь описаны Моррисом так, как всегда описывается зоологами жизнь шимпанзе, макаки, кошки или собаки. Нет нужды приводить отрывки, каждый может представить сам, как может быть описано его поведение на rendez-vous, если смотреть на него глазами зоолога, изучающего игровое и половое поведение особей. Представив такое описание, легко понять, что за бурю негодования вызвали книги Морриса «The naked ape» и «The human zoo».
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Владимир Набоков: pro et contra"
Книги похожие на "Владимир Набоков: pro et contra" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Борис Аверин - Владимир Набоков: pro et contra"
Отзывы читателей о книге "Владимир Набоков: pro et contra", комментарии и мнения людей о произведении.