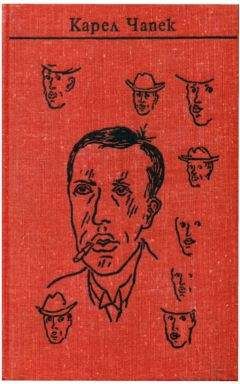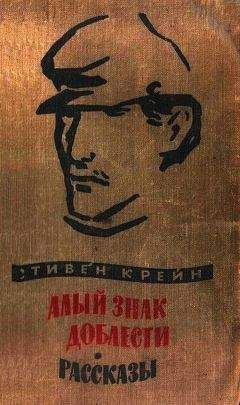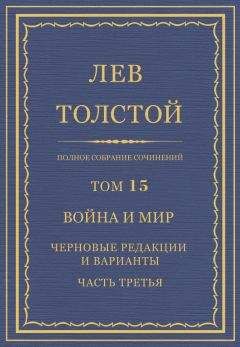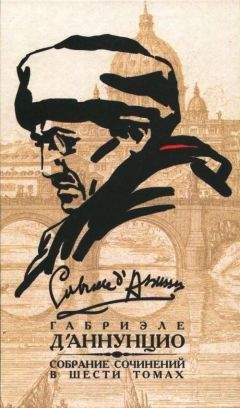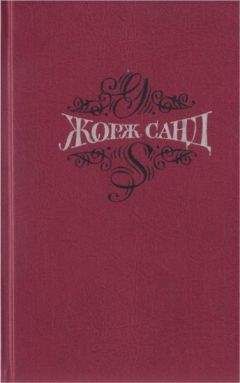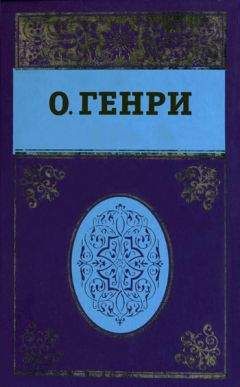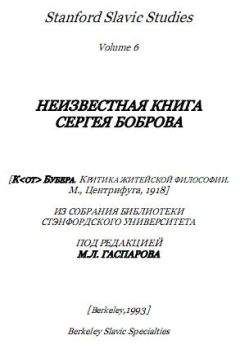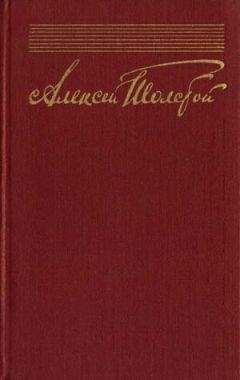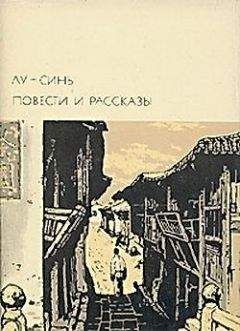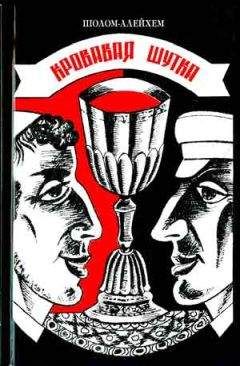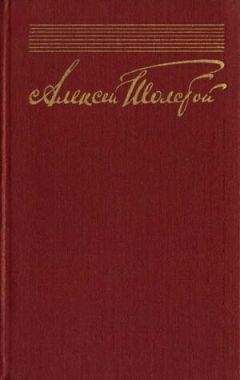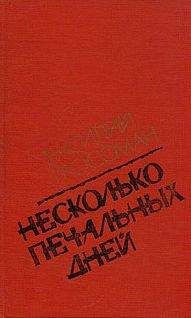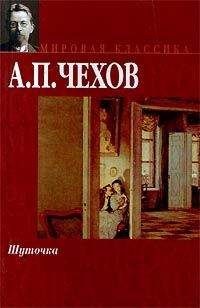Алексей Ремизов - Том 1. Пруд
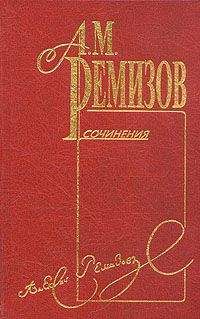
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Том 1. Пруд"
Описание и краткое содержание "Том 1. Пруд" читать бесплатно онлайн.
В 1-й том Собрания сочинений одного из наиболее значимых и оригинальных мастеров русского авангарда XX века Алексея Ремизова (1877–1957) вошли две редакции первого значительного произведения писателя — романа «Пруд» (1908, 1911) и публикуемое впервые предисловие к последней неизданной редакции романа (1925).
Крах шестовской утопии способствовал осознанию Ремизовым опасностей утопического мышления вообще и своего собственного варианта утопического «спасения» в «Пруде» — в частности. Но дальнейшую разработку темы трагизма человеческого существования Ремизов считал продуктивной и перспективной и хотел вновь склонить к ней своего старшего современника и единомышленника.
Но, конечно, сыграло свою роль и ремизовское стремление (представленное в 1925 году как главная побудительная причина переработки «Пруда») стать понятнее своим потенциальным читателям. С этой целью писатель использовал поэтику активно разрабатываемого русским символизмом особого жанрового образования — прозаического текста-«мифа», романа-«мифа».
Символистский роман-«миф» (в наиболее выдающихся его образцах представленный романами «Петр и Алексей» Д. С. Мережковского, «Мелкий бес» Ф. К. Сологуба и «Петербург» Андрея Белого) строится на взаимодействии двух основных смысловых рядов: символического изображения современной автору действительности и ориентации при этом повествования на различные литературные традиции[62]. Отсылки к произведениям русской литературы XIX — начала XX вв., вводимые Ремизовым в текст Третьей редакции, выступают посредниками между уже имевшимися во Второй редакции двумя пластами текста (натуралистически-описательным и символическим, интерпретирующим) и привлекают эти произведения в качестве своеобразных ключей (кодов-«мифов>>), открывающих трансцендентный смысл изображаемых в романе событий и ситуаций. — Основными полюсами мифологизации в романе оказываются сюжетные линии реформатора-промышленника Арсения Огорелышева и «боголюбовского старца» о. Глеба. Посредством ряда отсылок образа Арсения проецируется на выработанный русской литературой образ Петра I. Так, прежде всего с заботами царя-реформатора об укреплении экономики России, получившими освещение в ряде произведений А. С. Пушкина и особенно в романе Мережковского «Петр и Алексей», соотносится многогранная энер-гачная деятельность Арсения по всемерному подъему города, в котором он проживает. Благодаря подключению при этом к еще одной отечественной литературной традиции — изображения отдельного города как символа (субститута) всей страны в целом (ср., например, «Историю одного города» М. Е. Салтыкова-Щедрина), деятельность Арсения приобретает характер общегосударственной. Заботы Огорелышева о городе служат также отсылкой к мотиву Города, Петербурга как символа петровских преобразований в пушкинском «Медном всаднике» и в «Петре и Алексее». При описании усилий Арсения Ремизов старательно подчеркивает доходящую до жестокости решимость героя во что бы то ни стало реализовать свои реформаторские планы, что также перекликается с интерпретацией свершений Петра у Мережковского (не случайно Арсения, как и у Петра в «Петре и Алексее», судорожные корчи результат его титанического перенапряжения).
В «Пруде» имеется, наконец, и прямое упоминание имени первого русского императора в непосредственной связи с Огорелышевым: «"При Петре Великом быть бы Арсению первым министром!" — говаривали купцы <…>», — а также ряд более мелких деталей, соотносящих Огорелышева с традиционным образом царя: например, его пристрастие к игре в шашки (у Пушкина в «Арапе Петра Великого»), крайняя непритязательность в отношении своего внешнего вида (и у Пушкина, и у Мережковского) — но в «Пруде» последняя черта гипертрофирована, чтобы еще более подчеркнуть поглощенность героя своими заботами. Отношению Петра к религии и церкви в трактовке Мережковского соответствует в «Пруде» чисто показное исполнение Арсением религиозных обрядов и его прагматический подход к церкви как духовно-полицейскому институту существующей власти. Важен и такой момент: в обличье и «повадках» Огорелышева Ремизов постоянно отмечает нечто кошачье. Эта деталь отсылает к подробно разработанному у Мережковского мотиву сходства Петра I с котом (навеянному известным народным лубком XVIII века «Мыши кота хоронят», приуроченным к смерти царя и отразившим народное недовольство его реформами).
Спроецированностью Арсения на образ Петра в русской литературе задается восприятие Огорелышева и его деяний в контексте идущей от Мережковского и чрезвычайно значимой для русских символистов концепции мирового развития как земного проявления противоборства Христа и Антихриста. Подтверждением тому — неоднократное упоминание в тексте романа бытующего среди огорелышевских рабочих прозвища их хозяина — Антихрист и указания на веру «темных людей и простых» в то, что «Арсению бесы служат».
Арсению и на уровне бытовых описаний, и на мифологизирующем противопоставлен о. Глеб. Резко отрицательное отношение Огорелышева к схимнику (отсутствовавшее, кстати сказать, во второй редакции романа), которому, в отличие от него, «бесы повинуются», вновь заставляют вспомнить Петра в романе Мережковского. На мифологизирующем уровне «стоятель Божий», «хранитель Божьей правды» о. Глеб, отчетливо ориентированный Ремизовым на старца Зосиму из «Братьев Карамазов вых» (ср. со Второй редакцией), противопоставлен Арсению-«Антихристу» как образ уподобленный Христу (посредством включения в его речь отсылок к Молению о Чаше и страстям Господним)[63].
Образуя антиномию «Христова» («богочеловеческого» — пассивно-страдательного и сострадательного) и «антихристова» («человекобожеского» — активного и индивидуалистически-эгоистического) начал, образы старца и Арсения одновременно представляют в романе и два тематически различных контекста русской литературы, в свете которых выявляется скрытая ипостась братьев Финогеновых-«огорелышевцев».
На уровне бытовых описаний жизнедеятельность «огорелышевцев» предстает как поразительный симбиоз «доброго» и «злого». «Добрые» поступки братьев говорят сами за себя, «злые» же получают на уровне отсылок (опять-таки к теме Петра I) четкую маркировку, выявляющую их обусловленность «антихристовым» комплексом юных героев. Ориентация на детально разработанный в «Петре и Алексее» Мережковского мотив искоренения Петром традиционного социально-бытового и культурного уклада Древней Руси и текстуальная перекличка с ним ощутимы в изображении любимой игры братьев в «потешную войну», в изображении их религиозных кощунств: регулярно совершаемого ими «куриного» крестного хода, крестного хода «избиение младенцев», внезапного приступа исступленной религиозности у братьев — с уклоном в обрядовую сторону, поведения их в монастыре, отпевания и похорон кота Наумки.
Метания между Добром и Злом, Богом и Дьяволом, свойственное всем братьям, наиболее проявились в судьбе старшего и младшего из них. Младший — Николай — «огорелышевец», и, стало быть, огорелышевское «человекобожеское» начало присуще ему от рождения, генетически. Уже в детские его годы oно сказалось столь интенсивно, что из всех Финогеновых дядя Арсений выделил Колю, «видя в нем свою породу огорелышев-скую». Максимально выразившееся в убийстве им Арсения, это начало нашло соответствующее оформление в уподоблении Николая в этот момент Раскольникову («человекобогу», «наполеону», по Мережковскому).
В то же время Николай — единственный из братьев, кто обладает сразу обеими ипостасями-антиподами: и «человекобожеской» и «богочеловеческой». Текстов-«мифов», выявляющих последнюю, несколько. Контекст «Петра и Алексея» призван выявить истинный — потусторонний — характер взаимоотношений Николая и Арсения: посредством ряда отсылок и проекций они уподобляются отношениям Петра и царевича Алексея (в «Пруде» воспроизведен мотив «тайной любви — явной ненависти», связывающей, по Мережковскому, венценосного отца и его непокорного сына). А уж уподоблением Николая царевичу Алексею достигается, в свою очередь, перенос ипостаси последнего, ипостаси Христа[64] — на младшего Финогенова (на это же, кстати, работает и его противопоставление «Антихристу»-
Арсению). В дальнейшем образ Николая проецируется на «современного Христа» Достоевского — Алешу Карамазова (тщетные ожидания Колей нетленности «приказавшего долго жить» Покровского священника перекликаются с подобными ожиданиями Алеши после смерти старца Зосимы)[65]. И наконец, образ Николая уподобляется непосредственно самому Христу: особенно показательна в этом отношении сцена в тюрьме, где принявший на себя вину за все зло мира младший Финогенов решает искупить ее ценой собственных страданий, восклицая при этом: «Боже мой, подкрепи меня!» (реминисценция Моления о Чаше)[66].
Уподобляясь Христу, образ Николая тем самым функционально сближается с образом о. Глеба. Но и событийно жизненный путь младшего Финогенова в основных своих этапах повторяет — за исключением лишь завершения! — жизненный путь старца. Однако именно иной, несходный финал определил отрицательный жизненный баланс Николая в целом: в отличие от старца, который принял и благословил свою нелегкую судьбу и собственную смерть встретил словами, утверждающими покорность Сына волеизъявлению Отца («Да будет воля Твоя!»), Николай, пройдя этот же путь — путь «современного Христа», завершил его тем, что судьбы своей не принял и не благословил ее, т. е., по сути, устрашился Голгофы. Николай — это как бы «потенциальный», но не реализовавший себя «современный Христос».
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Том 1. Пруд"
Книги похожие на "Том 1. Пруд" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Алексей Ремизов - Том 1. Пруд"
Отзывы читателей о книге "Том 1. Пруд", комментарии и мнения людей о произведении.