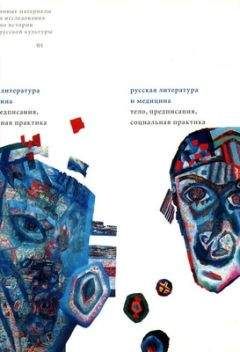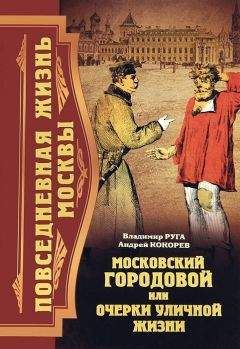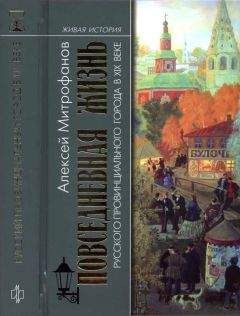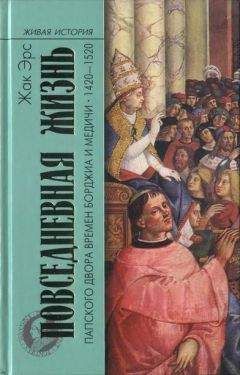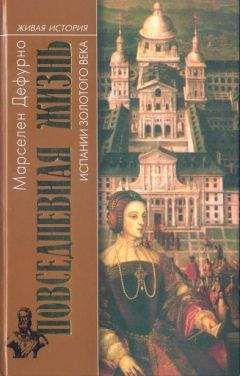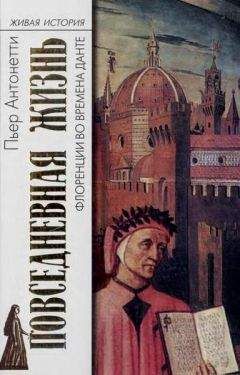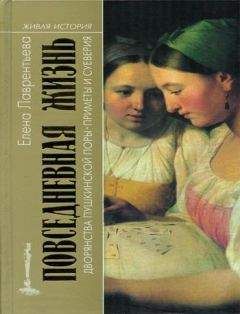Елена Лаврентьева - Повседневная жизнь дворянства пушкинской поры. Этикет

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Повседневная жизнь дворянства пушкинской поры. Этикет"
Описание и краткое содержание "Повседневная жизнь дворянства пушкинской поры. Этикет" читать бесплатно онлайн.
Книга знакомит читателей с правилами дворянского этикета пушкинского времени и культурой застолья первой трети XIX века. Повествует о гастрономических пристрастиях русской аристократии. В книгу включены документальные источники и материалы из периодических изданий и руководств по этикету прошлого века.
Изд. второе
А. А. Бестужев-Марлинский писал из Петербурга в Москву П. А. Вяземскому: «Право, я с удовольствием вспоминаю вихрь, в котором я у вас кружился, и жажду попасть на несколько времени в такой же»{3}.
Москва издавна славилась своим гостеприимством, и «коренные» московские хлебосолы, такие как И. П. Архаров, Ю. В. Долгоруков, С. С. Апраксин, В. А. Хованский, П. X. Обольянинов, А. П. Хрущев, Н. И. Трубецкой, С. П. Потемкин, М. И. Римская-Корсакова, Н. Хитрово и другие, не вели списка приглашенным на бал или ужин лицам.
«В прежнее доброе время, — читаем в записках Е. Ф. Фон-Брадке, — было нетрудно познакомиться в Москве с древними дворянскими семействами. Гостеприимство было широкое, и через несколько дней мы получили столько приглашений на обеды и вечера или постоянно, или в назначенные дни, что, при полнейшей готовности, невозможно было всеми воспользоваться»{4}.
В первую очередь старая столица славилась стерляжьей ухой, калачами и кулебяками. В черновой рукописи «Путешествия Онегина» есть такие строки:
Москва Онегина встречает
Своей спесивой суетой,
Своими девами прельщает,
Стерляжьей потчует ухой.
Вошли в историю и московские кулебяки. Н. И. Ковалев в книге «Рассказы о русской кухне» считает, что в «Мертвых душах» Н. В. Гоголя речь идет о старинной московской кулебяке. «Фарш в нее клали разный, располагая его клиньями, разделяя каждый вид блинчиками ("на четыре угла"), делали ее из пресного сдобного рассыпчатого теста ("чтобы рассыпалась"). Особое искусство было в том, чтобы хорошо пропечь кулебяку с сочным фаршем»{5}.
А вот и описание кулебяки, которую заказал Петр Петрович Петух: «Да кулебяку сделай на четыре угла. В один угол положи ты мне щеки осетра да вязиги, в другой гречневой кашицы, да грибочков с лучком, да молок сладких, да мозгов, да еще чего знаешь там этакого, какого-нибудь там того… Да чтобы она с одного боку, понимаешь, подрумянилась бы, а с другого пусти ее полегче. Да исподку-то пропеки ее так, чтобы всю ее прососало, проняло бы так, чтобы она вся, знаешь, этак растого — не то чтобы рассыпалась, а истаяла бы во рту, как снег какой, так чтобы и не услышал»{6}.
Примечательно письмо П. А. Вяземского А. И. Тургеневу: «Разве я тебе не сказывал, разве ты не знал от Карамзиных, что поеду в Москву за женою, покупаюсь в ухах, покатаюсь в колебяках, а там приеду с женою к вам на месяц, а там — в Варшаву…»{7}
Московские кулебяки не могли оставить равнодушным и А. И. Тургенева. «Тургенев со страхом Божиим и верою приступает к отъезду в Петербург, — сообщает Вяземскому А. Я. Булгаков. — Он без памяти от Москвы, от здешних кулебяк и от Марьи Алексеевны Толстой…»{8}
Калачи также входили в число «знаменитых специально московских снедей». Московские калачи воспевали поэты:
В Москве же русские прямые,
Все хлебосолы записные!
Какие же там калачи!
Уж немцам так не испечи! —
читаем в послании А. Е. Измайлова «На отъезд приятеля в Москву»{9}.
Князь Д. Е. Цицианов рассказывал о том, как Потемкин отправил его из Москвы в Петергоф доставить Екатерине II к завтраку столь любимые ею московские горячие калачи: «…он ехал так скоро, что шпага его беспрестанно стукала о верстовые столбы, и в Петергофе к завтраку Ее Величества подали калачи. В знак благодарности она дала Потемкину соболью шубу»{10}.
«Теперь роскошничают московскими калачами: калачня на Тверской снабжает калачами прихотников всей России»{11}.
«На этих вывесках небольших, квадратных, находящихся под окнами калашни, обыкновенно изображаются два калача, висящие на воздухе, а между ими какая-нибудь булка, также плавающая в воздухе. Но большая часть калачников не имеют вывесок, а вместо того выставляют за окно на деревянной доске два или три натуральные калача, связанные веревкою и прикрепленные к этой доске. Предосторожность необходимая, чтоб избавиться от дерзких нахалов и лакомых… нет не скажу; грех по одному или по некоторым судить обо всех»{12}.
Снискали себе славу и московские пряники, которые упоминаются в романе А. С. Пушкина «Евгений Онегин». «Ах, милый друг, зачем ты не с нами! — пишет из Москвы А. Я. Булгаков А. И. Тургеневу — Какие обеды, какие стерляди, спаржа, яблоки, пряники, балы, красавицы, спектакли!»{13}
«Сарептский магазин был где-то далеко, за Покровкой и за Богоявлением: вот на первой неделе, бывало, туда все и потянутся покупать медовые коврижки и пряники, каких теперь не делают. Целая нить карет едет по Покровке за пряниками», — рассказывает Е. П. Янькова{14}.
Какие еще блюда можно назвать «специфически московскими»?
В дневниковых записях Ю. Н. Бартенева за 1837 год упоминается «московское блюдо карасей в сметане»{15}. Караси, жаренные вместе с чешуей в сметане с луком, — известное с IX века классическое русское национальное рыбное блюдо.
Из мясных блюд отменным вкусом славились телячьи котлеты[152], о которых с удовольствием в Петербурге вспоминал И. А. Крылов. «Телячьи отбивные котлеты были громадных размеров, — еле на тарелке умещались, и половины не осилишь. Крылов взял одну, затем другую, приостановился и, окинув взором обедающих, быстро произвел математический подсчет и решительно потянулся за третьей. "Ишь, белоснежные какие! Точно в Белокаменной…"»{16}
Телячьи котлеты упоминает и баронесса Е. Менгден, рассказывая об обедах в московском доме своей бабушки, Е. А. Бибиковой: «Несмотря на свою большую семью, бабушка жила совершенно одна в собственном большом доме на Пречистенке… Но все-таки родственников было так много, что по большим праздникам садилось за стол у бабушки человек двадцать и более. Кушанья подавались на тяжелых серебряных блюдах, и первое блюдо непременно телячьи рубленые котлеты с ломтиком лимона на каждой котлете»{17}.
Минует столетие, и в начале нынешнего века бытописатель Москвы с горечью отметит: «Особенности Москвы в настоящее время сгладились, почти исчезли; уже нет особого московского мировоззрения, специальной московской литературы, а тем более науки; даже калачи и сайки и прочие, некогда знаменитые, специально московские снеди выродились; нет, наконец, старого говора и настоящего "москвича"»{18}.
«А, право, жаль, что в Москве пряничные мастера пишут теперь на своих вывесках вместо: "Пряничный курень", как бывало прежде, новое название: "Пряничная пекарня". Зачем это ненужное отречение от выразительного и коренного русского слова?»{19}
Глава XXXVI.
«Без прозвищ все как-то выходило пресно»{1}
Речь в этой главе пойдет о гастрономических прозвищах. Известно, что представители дворянского общества начала XIX века щедро награждали друг друга прозвищами и кличками.
По словам П. А. Вяземского, «Москва всегда славилась прозвищами и кличками своими. Впрочем, кажется, этот обычай встречался и в древней Руси. В новейшее время он обыкновенно выражается насмешкою, что также совершенно в русском духе.
Помню в Москве одного Раевского, лет уже довольно пожилых, которого не звали иначе как Зефир Раевский, потому что он вечно порхал из дома в дом. Порхал он и в разговоре своем, ни на чем серьезно не останавливаясь. Одного Василия Петровича звали Василисой Петровной. Был король Неапольский, генерал Бороздин, который ходил с войском в Неаполь и имел там много успехов по женской части. Он был очень строен и красив. Одного из временщиков царствования императрицы, Ивана Николаевича Корсакова, прозвали Польским королем, потому что он всегда, по жилету, носил ленту Белого Орла…
Была красавица, княгиня Масальская (дом на Мясницкой), la belle sauvage — прекрасная дикарка, — потому что она никуда не показывалась. Муж ее, князь мощи, потому что он был очень худощав. Всех кличек и прилагательных не припомнишь»{2}.
Обычай давать прозвища был распространен не только в Москве, но и в Петербурге.
«То же в старое время была в Петербурге графиня Головкина. Ее прозвали мигушей, потому что она беспрестанно мигала и моргала глазами. Другого имени в обществе ей не было»{3}.
Разнообразны были прозвища однофамильцев.
«Так как князей Голицыных в России очень много, то они различаются по прозвищам, данным им в обществе, — читаем в записках Ипполита Оже. — Я знал княгиню Голицыну, которую звали princesse Moustache[153], потому что у ней верхняя губа была покрыта легким пушком; другая была известна под именем princesse Nocturne[154], потому что она всегда засыпала только на рассвете. Мой же новый знакомый прозывался le prince cheval[155], потому что у него было очень длинное лицо»{4}.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Повседневная жизнь дворянства пушкинской поры. Этикет"
Книги похожие на "Повседневная жизнь дворянства пушкинской поры. Этикет" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Елена Лаврентьева - Повседневная жизнь дворянства пушкинской поры. Этикет"
Отзывы читателей о книге "Повседневная жизнь дворянства пушкинской поры. Этикет", комментарии и мнения людей о произведении.