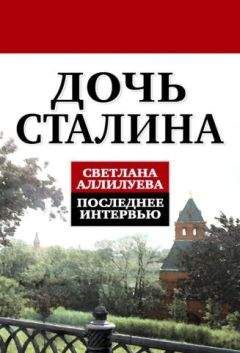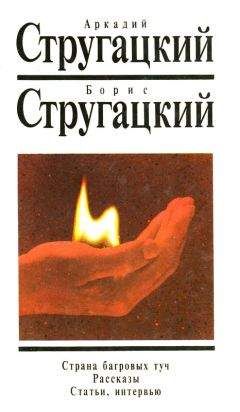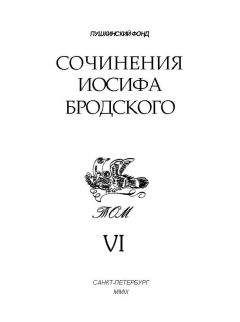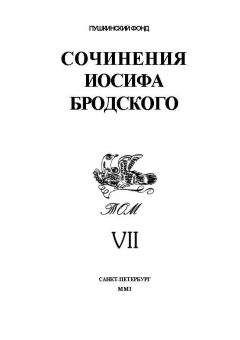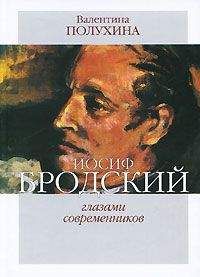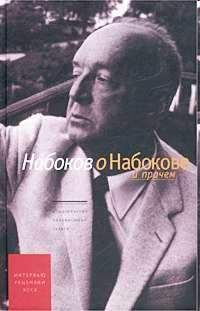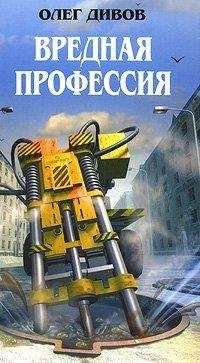Валентина Полухина - Иосиф Бродский. Большая книга интервью
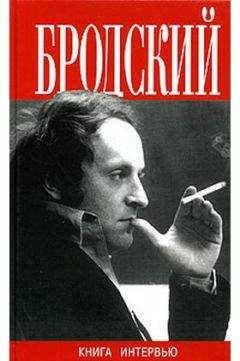
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Иосиф Бродский. Большая книга интервью"
Описание и краткое содержание "Иосиф Бродский. Большая книга интервью" читать бесплатно онлайн.
От составителя и издателя
Выбрать из 153 интервью самые интересные, самые содержательные, избежав повторений, оказалось весьма непросто. Повторы смущали и самого Бродского, но он их воспринимал как неизбежность жанра интервью. Однако нам представляется, что для читателя повторы представляют немалую ценность, ибо подчеркивают круг идей, которые не оставляли Бродского в покое в течение всей его жизни. Кроме того, чтобы исключить повторы, пришлось бы подвергнуть некоторые интервью своего рода цензуре, что в высшей степени неэтично: все собеседники Бродского вправе рассчитывать, что при перепечатке их интервью не будут изменены. Поэтому мы старались оставить все, как в оригинале, включая названия интервью, под которыми они были первоначально опубликованы. Но до крайностей этот принцип не доведен: некоторые названия изменены, а сами тексты отредактированы издателем с учетом норм орфографии и пунктуации, принятых в РФ. Исправлен также ряд стилистических и фактических ошибок, вкравшихся в прежние публикации. Впрочем, к чрезмерной унификации текстов мы тоже не стремились и старались сохранить в книге все индивидуальные особенности — и Бродского, и его собеседников, и переводчиков.
В этот сборник не включено ни одно из интервью Соломона Волкова, поскольку все они изданы отдельной книгой по- русски и в Америке, и в России. С другой стороны, многие интервью печатаются в этой книге впервые, причем не только впервые по-русски, но и вообще впервые в мире.
Полную информацию о публикации каждого интервью читатель найдет в приложенной библиографии. Все интервью расположены в хронологическом порядке встреч с поэтом.
Выражаем благодарность всем журналам, газетам и авторам интервью, давшим согласие на включение их бесед с Бродским в наш сборник, рассчитываем на снисхождение к невольным ошибкам и просим присылать свои замечания, которые будут с благодарностью учтены в последующих изданиях этой книги.
Валентина Полухина,
профессор русской литературы, Килский университет, Англия
Игорь Захаров,
издатель, Москва
То есть началось все даже не с религиозных чувств, не с Пастернака или Элиота, а именно с картинки.
А какая картинка, какой визуальный образ связан у вас сейчас с Рождеством? Природа, городской пейзаж?
Природа, конечно. По целому ряду причин, прежде всего потому, что речь идет о явлении органичном, именно природном. Кроме того, поскольку для меня все это связано с живописью, в рождественском сюжете город вообще редок. Когда задник — природа, само явление становится более, что ли, вечным. Во всяком случае, вневременным.
Я спросил о городе, вспомнив ваши слова о том, что вы любите встречать этот день в Венеции.
Там главное вода — связь не напрямую с Рождеством, а с Хроносом, со временем.
Напоминает о той самой точке отсчета?
И о той, и о самой: как сказано, "Дух Божий носился над водою". И отразился до известной степени в ней — все эти морщинки и так далее. Так что в Рождество приятно смотреть на воду, и нигде это так не приятно, как в Венеции.
Где вода повсюду — и важнее тверди. Поначалу вам вся эта ситуация, видимо, казалась достаточно экзотичной — я сужу по венецианскому стихотворению семьдесят третьего года: "Рождество без снега, шаров и ели у моря, стесненного картой в теле". Значит, нашлось нечто существеннее шаров. Их, кстати, как и ели, да и снега, не было и быть не могло и в изначальном событии, и в той картинке над печкой в Комарове. И все же — что именно вас так привлекло в ней?
Знаете, в психиатрии есть такое понятие — "комплекс капюшона". Когда человек пытается оградиться от мира, накрывает голову капюшоном и садится, ссутулившись. В той картинке и других таких есть этот элемент — прежде всего за счет самой пещеры, да? Так мне казалось.
В общем, все началось, как я вам говорил, по соображениям не религиозного порядка, а эстетическим. Или психологическим. Просто мне нравился этот капюшон, нравилась вот эта концентрация всего в одном — чем и является сцена в пещере.
В связи с этим — разумеется, бессмысленно вступать в полемику — у меня даже есть некоторые возражения по поводу того, как Пастернак обращался с этим сюжетом, в частности с рождественской звездой.
У нас сегодня имя Пастернака в третий, кажется, раз всплывает в разговоре, что естественно — в русской поэзии двадцатого века никто не уделял столько места евангельской теме. Вы, я думаю, помните об этом лучше всех: не совпадение же, что у вас есть стихотворение восемьдесят седьмого года, названное, как и у Пастернака, — "Рождественская звезда".
Кстати, написал я его фазу по возвращении из Стокгольма.
Тем более, значит, сопоставление подкрепляется и Нобелевской премией. В чем же ваши возражения Пастернаку?
У него там центробежная сила действует. Радиус все время расширяется — от центральной фигуры, от Младенца. В то время как, по существу, все наоборот.
У вас движение — центростремительное. В стихе восемьдесят девятого года это выражено недвусмысленно, хоть и парадоксально: "трех лучей приближенье к звезде", а не движение лучей от звезды.
Совершенно верно. То есть я не хочу сказать, что я прав. Но так мне кажется, да?
Ваш подход к евангельским темам, вы говорите, общехристианский, но сосредоточенность на Рождестве — уже некий выбор. Ведь в западном христианстве именно это — главный и любимейший праздник, а в восточном — Пасха.
В этом-то вся разница между Востоком и Западом. Между нами и ними. У нас — пафос слезы. В Пасхе главная идея — слеза.
Мне представляется, что главное различие— в западном рационализме и восточной мистичности. Одно дело — родиться, это каждому дано, другое дело — воскреснуть: тут чудо.
Да, да, это тоже. Но в основе всего — чистая радость Рождества и…
…и радость через страдание.
И радость через страдание. Поэтому у Пастернака куда более сногсшибательные стихотворения — стихи о Распятии, про Магдалину. Это замечательные стихи, совершенно фантастический там конец.
Тут мне есть что сказать. У Пастернака, этого поэта микрокосма, как ни странно, в рождественском стихотворении и в двух про Магдалину все движение — противоположное его натуре, тому, с чем мы всегда сталкиваемся у него. В евангельских его стихах движение, я уже говорил, центробежное. Настолько, что он выходит за пределы доктрины. Например, когда он говорит: "Слишком многим руки для объятья / Ты раскинешь по концам креста".
Тут, конечно, слово "слишком" — как бы слишком.
Это, если угодно, ересь. Но здесь сказывается центробежная сила стихотворения. Чем замечательна изящная словесность — что при использовании религиозного материала метафизический аппетит поэта или самого стихотворения перерастает метафизический аппетит доктрины как таковой.
Вот в "Магдалине" что происходит? Согласно доктрине, Он воскресает. Но стихотворение само диктует, строфы накапливаются и обретают массу, которая требует следующего движения, расширения.
Доктрина по определению сужает, ограничивает.
В ее пределы стихотворение не укладывается. То же самое происходит, скажем, с "Божественной комедией" — это мир куда более огромный, чем задан темой.
Но в "Рождественской звезде" у Пастернака такого еретического выхода за пределы нет.
Там другое расширение. Я думаю, что источник этого стихотворения тот же, что и мой, а именно — итальянская живопись. По своей эстетике стихотворение мне напоминает Мантенью или Беллини, там все время такие круги идут, эллипсоиды, арки: "Ограды, надгробья, оглобля в сугробе / и небо над кладбищем, полное звезд" — вы слышите их во всех этих "о", "а", "об". Если сопрягать с отечественной эстетикой, то это, конечно, икона. Все время нимбы строятся — расширяющиеся.
В рождественском стихотворении у Пастернака вообще много всего — и итальянская живопись, и Брейгель, какие-то собаки бегут и так далее и так далее. Там уже и замоскворецкий пейзаж. Саврасов проглядывает.
Грачи, во всяком случае, есть: "Гнезда грачей и деревьев верхи".
Источником этого цикла у него и источником, до известной степени, его обращения, — хотя я позволяю себе уже совершенно непозволительные вещи — гадать по поводу его религиозных ощущений, — я думаю, источником была прежде всего итальянская живопись. Вполне возможно, книжка с иллюстрациями.
Вроде той, на которую смотрели вы?
Ага, ага. Но вполне возможно, что я и заблуждаюсь.
В двадцатом веке был еще русский писатель, вплотную занимавшийся евангельским сюжетом, — Булгаков.
Этот господин производит на меня куда меньшее впечатление, чем кто-либо.
Чем кто-либо из трактующих эту тему?
Чем кто-либо из известных русских прозаиков.
Это относится ко всему, за исключением "Театрального романа". Что касается евангельских дел, то это у него в сильной степени парафраз Мережковского и вообще литературы того времени. Лучшее, что я могу сказать, — хороший коллаж. И потом, в этих делах Булгаков чрезвычайно себя скомпрометировал своими развлечениями с чертом.
А кому, по-вашему, в русской литературе удавалась евангельская, библейская тема?
Сологубу, может быть. Замечательные переложения у Ломоносова, Тредиаковского. Но вообще так фазу я не упомню. Вот Пастернак, конечно. Но в целом прикладной, так сказать, традиции в нашей изящной словесности вроде нет. Религиозные дела были опосредованы самой жизнью, составляли часть жизни, и, возможно, не приходило в голову садиться и писать стихи на конкретный праздник. С пасхальными стихами у нас, правда, получше.
Иосиф, в своем эссе "Путешествие в Стамбул" вы высказались довольно определенно в похвалу многобожию по сравнению с монотеизмом, выводя из этих категорий соответственно демократическое и авторитарное мировоззрение и общественное устройство. Напомню ваши слова: "В сфере жизни сугубо политической политеизм синонимичен демократии. Абсолютная власть, автократия синонимична, увы, единобожию".
Я и сейчас придерживаюсь тех же взглядов. Я вообще считаю, что конфликт между политеизмом и монотеизмом, — может быть, одно из самых трагических обстоятельств в истории культуры. Я думаю, такого конфликта — особенно если учесть форму, которую он принял, — по существу, нет. Было два или три человека в мировой истории, которые старались с этим каким-то образом совладать. Был Юлиан Отступник, а в стихах нечто подобное пытался осуществить Константин Кавафис. У него шесть или семь стихотворений про Юлиана Отступника. Для греков идея Троицы была как бы досадным сужением всей амплитуды.
Поредевший Олимп?
Что-то вроде. Упрощенная метафизика.
Простите за интимный вопрос: вы человек религиозный, верующий?
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Иосиф Бродский. Большая книга интервью"
Книги похожие на "Иосиф Бродский. Большая книга интервью" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Валентина Полухина - Иосиф Бродский. Большая книга интервью"
Отзывы читателей о книге "Иосиф Бродский. Большая книга интервью", комментарии и мнения людей о произведении.