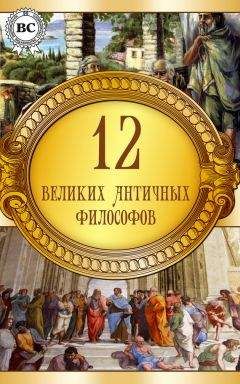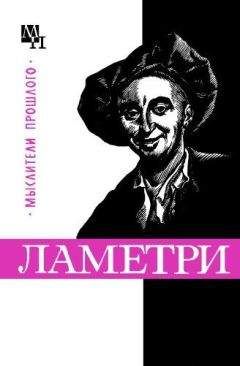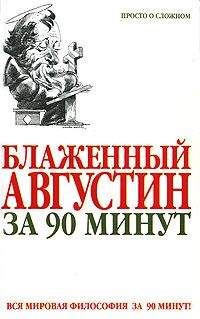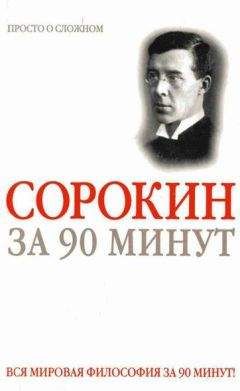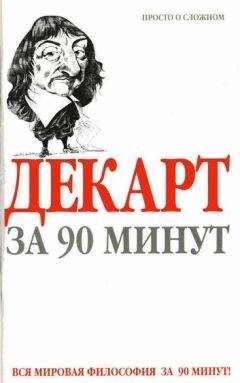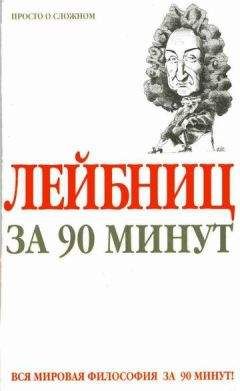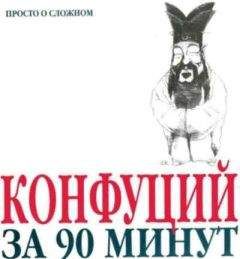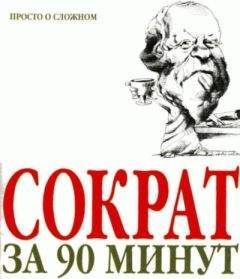dm - ПОЛ СТРЕТЕРН «20 философов за 90 минут»
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "ПОЛ СТРЕТЕРН «20 философов за 90 минут»"
Описание и краткое содержание "ПОЛ СТРЕТЕРН «20 философов за 90 минут»" читать бесплатно онлайн.
-
ДЕРРИДА
ДЕРИДА ЗА 90 МИНУТ
ВСЯ МИРОВАЯ ФИЛОСОФИЯ ЗА 90 МИНУТ!
Введение
«Больше всего на свете я люблю воспоминания и самое Память», — написал в 1984 году Жак Деррида в своих мемуарах о недавно скончавшемся друге, философе Поле де Мане. И в то же время, по признанию Дерриды, — «у меня никогда не получалось рассказывать истории». Для автора эти высказывания отнюдь не являются взаимоисключающими. «Он утрачивает способность к повествованию как раз потому, что остается верен памяти», — говорит Деррида о себе. Только тогда образ остается «разборчивым». Если же этот образ сделать частью некоей «истории», навязывающей ту или иную интерпретацию, то он неизбежно станет более расплывчатым и менее «раз-
борчивым». Вроде бы все понятно. Правда, немного неясно, почему же в самих мемуарах нет ни единого образа друга автора и даже ни единого воспоминания о нем. Само собой, нети намека на какую-либо историю о покойном, ведь история навязывает интерпретацию. Но как ни парадоксально, эти так называемые мемуары посвящены интерпретации интеллектуальных достижений друга. Говоря словами Дерриды, он «вступает в непрямой диалог» с де Маном и его творчеством. Интерпретация поэтомутоже неявная: она осуществляется при помощи таких фигур, как Хайдеггер, Остин, Гельдерлин и Ницше.
Таким образом, любой, кто захочет рассмотреть теории Дерриды с точки .зрения простого здравого смысла, сразу же окажется в очень неудобном положении. Мало того, подобный подход идет вразрез с духом и буквой всего творчества исследуемого. Поэтому я честно хочу предупредить читателей, что предпринятые в данной книге попытки разъяснить биографию и творчество Дерриды были бы заклеймены философом как непродуктивные и безнадежно предвзятые. Зато он непременно одобрил бы юмор. Деррида
6
сам большой поклонник юмора, шутки и игры слов. Хотя и тут не все слава богу — юмор Дерриды довольно специфический, это юмор французского интеллектуала. Он уходит корнями в модернистскую традицию, характерную для искусства и мысли континентальной Европы, которая известна под названием «теории абсурдного». Попав в абсурдную ситуацию, невинные обыватели, не посвященные в круг французских интеллектуалов, скорее всего начнут смеяться. Наивность их заслуживает сожаления, ибо абсурд — это явление в высшей степени серьезное. Тоже самое и с юмором Дерриды. Он — дело серьезное. Он не смешон (кроме как для французских интеллектуалов). Да он и не должен вызывать смех. Хотя Деррида и еврей, как Вуди Аллен, при всем желании нельзя найти ничего общего в их юморе. А кому из них — манхэттенскому ипохондрику или великому парижскому интеллектуалу — лучше удалось объяснить изменчивую человеческую природу, это уже другой вопрос.
Жизнь и труды Дерриды
Основой «философии деконструкции» Дерриды является следующее утверждение: «Нет ничего, кроме текста». Тем не менее тот факт, что Жак Деррида родился в Алжире в 1930 году, неподвластен какой бы то ни было деконструкции, •в какую текстуальную форму его ни облекай.
Родители Дерриды были «ассимилированными» евреями и принадлежали к кругу мелкой буржуазии, будучи таким образом одновременно и членами французского колониального класса, и изгоями внутри него. Деррида рос в столице, приморском городе Алжире. Жизнь европейцев здесь протекала в приятной бесцельности по средиземноморскому обычаю — между работой, кафе и
9
пляжем. Алжирский вариант бесподобно описан в романе «Посторонний» французского писателя Альбера Камю, который сам вырос в Алжире. Деррида жил на улице Св. Августина. Этот факт позднее сыграл важную, хотя и не совсем понятную роль при написании Деррид ой в 1991 году автобиографии. Он назвал ее «Циркумфессия», намекая на две важнейшие темы сочинения — обрезание (circumcision) и исповедь (confession). Тем не менее по прочтении работы ни то, ни другое яснее для нас не становится. В одном месте Дер-рида пишет, явно имея в виду себя: «Лира в одной руке, нож в другой — он осуществляет свое собственное обрезание». Но уже через несколько страниц мы находим следующее заявление: «Обрезание — вот та угроза, что заставляет меня пи-"сать». С исповедью все также туманно. В одном месте автор говорит: «Я все время ей лгал (имеется в виду его мать. — Прим. перев.), как, впрочем, и всем вам». Далее следует длинная латинская цитата из «Исповеди» св. Августина. «Циркумфессия» Дерриды вообще изобилует латинскими цитатами из св. Августина, с которым автор находит много общего. Св. Августин действительно
10
родился в 354 году до н.э. в римской колонии Ну-мидия, что находилась на территории современного Алжира. Прочие же моменты, связывающие Дерриду с раннехристианским философом и мастером религиозной исповеди, не столь очевидны. Но Деррида не только ищет сходства со св. Августином, он еще и воображает его себе в виде «маленького еврея-гомосексуалиста (из Алжира или Нью-Йорка)» и даже говорит о своей собственной «невозможной гомосексуальности». И наконец, следует признание: «Я не знаю, кто такой святой Августин». Теперь, когда мы это выяснили, самое время обратиться к фактам.
В 1940 году Вторая мировая война пришла и в Алжир, Дерриде было тогда 10 лет. И хотя на территории страны не прогремело ни одной битвы и ни один немецкий солдат так и не ступил на ее землю, отравляющее дыхание войны не обошло стороной жителей этой французской колонии, ставшей частью нацистской империи. Лучше всего описать господствующую тогда атмосферу удалось опять-таки Камю в другом его романе «Чума». Франция была повержена, и французская колония Алжир перешла под уп-
11
равление коллаборационистского режима Петэ-на. В 1942 году в согласии с нацистской линией были приняты законы о расовой чистоте, выпустившие на волю дремавшие до тех пор латентные антисемитские настроения среди европейского населения колонии. Один учитель сообщил Дер-риде, что «французская культура создавалась не для маленьких евреев». Обыкновенно почетная обязанность поднимать по утрам над школой французский флаг предоставлялась лучшему ученику в классе, но из-за Дерриды это пришлось поручить ученику номер два. Для приема в лицей (старшие классы средней школы) была введена система квот, по которой количество учащихся евреев не должно было превышать 14%. Директор школы, где учился Деррида, по собственной инициативе уменьшил эту квоту до 7%, и Деррида был исключен. Это в школе, на улице же дело могло дойти до прямых оскорблений и даже насилия.
Можно только догадываться, какое впечатление все это могло произвести на исключительно одаренного и чувствительного мальчика. Также можно понять, почему, будучи уже взрослым чело-
12
веком, Деррида всячески открещивался от попыток проследить влияние этого раннего опыта на его дальнейшую мыслительную деятельность. В конце концов, он поставил себе целью исследовать философию , а не самого себя. Он последовательно избегал сообщать о себе сведения личного характера, которые помогли бы установить причинно-следственную связь между его биографией и творчеством. И он имел на это право какчеловек, выживший несмотря ни на что и сумевший создать свою философию вопреки всем попыткам саботировать его интеллектуальную и общественную жизнь.
Какое-то время подросток Жак не получал вообще никакого образования. Его записали в неофициальный еврейский лицей, но он тайком прогуливал большую часть занятий. Он понимал, что как еврей он «принадлежит» иудаизму, но в то же время по своему воспитанию являлся ассимилированным членом европейского общества, которое теперь от него отвернулось. Этот ранний болезненный опыт сделал Дерриду противником расизма в любых его проявлениях. Однако, по словам коллеги Джеффри Беннингтона, Деррида «не терпел любого отождествления со стадом, как
13
и требований обозначить свою принадлежность к какой бы то ни было группе вообще, даже если они исходили от евреев».
Когда после окончания войны стало возможным продолжать образование обычным путем, Деррида уже превратился в непослушного ученика, которого интересовал лишь футбол. Он мечтал стать профессиональным футболистом. Это была не такая уж мещанская мечта, как может показаться на первый взгляд. Всего десять ле;г назад Камю играл за футбольную команду « Гонщики Алжира». В этот период Деррида случайно услышал по радио передачу о Камю и заинтересовался философией. Идеалом Дерриды быт мыс-лящий человек действия.
Никто бы не посмел усомниться в способностях Дерриды, несмотря на его юношеский бунт. В 19 лет его отправили в Париж для подготовки к поступлению в Ecole Normale Superieure, самое престижное высшее учебное заведение Франции. Однако после солнечного Алжира одинокая жизнь в холодном унылом Париже оказалась серьезным испытанием для юноши. Деррида увлекся нигилистическим экзистенциализмом Сартра,
14
в ту пору весьма популярным в студенческих кафе на Левом берегу Сены. Сартр утверждал, что «существование предшествует сущности». Он заявлял, что не существует такой вещи, как человеческая природа. Наша личность и наша жизнь не являются данностью — мы творим и то и другое посредством своих поступков. Те выборы, которые мы совершаем в нашей жизни, делают нас теми, кто мы есть.
В итоге предэкзаменационный стресс, общая дезориентация и наркотики (амфетамины и снотворные) привели к тому, что после первого экзамена у Дерриды случился небольшой нервный срыв и он бросил учебу. Он поступил в Ecole Normale Superieure со второй попытки, в 1952 году, где и изучал философию в течение последующих пяти лет. В этот период Деррида приступил квни-мательному чтению двух мыслителей, которые больше всех повлияли на Сартра, — немецких философов Хайдеггера и Гуссерля. Эти мыслители начала XX века сыграли решающую роль в создании и развитии феноменологии, «философии сознания». Согласно феноменологии, основы нашего сознания находятся по ту сторону рацио-
15
нальных суждений и научных доказательств. Познать сознание можно лишь интуитивно. Только с помощью интуиции возможно пробиться к основным вопросам бытия, к самой экзистенции. Следовательно, основы всего нашего знания находятся за пределами разума, познаем мы не через разум, а через восприятие.
В 1954 году разразилась война между Францией и Алжиром, арабское и берберское население которого потребовало независимости. Деррида поддерживал борьбу за независимость, но в 1957-м после окончания учебы был призван в ряды французской армии в Алжире. Тогда он вызвался работать учителем и получил место в школе для детей французских и алжирских солдат, воюющих за Францию. Несмотря на известия о жестокостях, чинимых обеими сторонами, Дерриду не оставляла надежда на возможность мирного сосуществования европейского и арабского населения в независимом Алжире. Семья Дерриды уже на протяжении пяти поколений жила в Алжире, ее члены' считали себя скорее алжирцами, нежели французами. В 1960 году Деррида вернулся во Францию и занял, пост преподавателя философии и логики в
16
Сорбонне, части Парижского университета. К этому времени Деррида успел жениться на Маргерит Окутурье, с которой вместе учился в Ecole Normale Superieure. Вдвоем они съездили в Алжир, а по возвращении Деррида пережил серьезный приступ депрессии. Война закончилась в 1962 году, Алжир получил независимость, европейское население в массовом порядке покидало страну. Так разбилась заветная надежда Дерриды стать гражданином независимого Алжира. Отныне его нередко будет мучить чувство, которое он сам называл «носталь-жирия». Но 1962 год можно также считать годом рождения Дерриды как независимого философа: он опубликовал свою первую серьезную работу — перевел «Происхождение геометрии» Гуссерля, снабдив перевод своим введением, по сравнению с которым небольшой по объему труд Гуссерля почти потерялся в книге.
Гуссерль, математик по образованию, быстро увидел слабое место феноменологии, основывающей всякое знание на интуиции или на непосредственности индивидуального восприятия. Если основы всякого знания находятся за пределами разума и науки, как тогда определить истинность
17
знания, не основанного на твоей личной интуиции? Отсюда следовало, что любое математическое и научное знание является относительным. Тогда и положения типа 2 + 2 = 4 не являются незыблемыми, это просто результаты чьего-то интуитивного познания мира. Ау кого-нибудь другого интуиция сработает по-другому, значит, нет никаких оснований отвергать и другие гипотезы.
Гуссерль попытался вывести философию из, этого затруднительного положения, которое угрожал о уничтожить любую возможность объективно-. го познания. В качестве образца для всякого мате-; магического и научного знания он взял геометриюь как наиболее точную его форму. Если удастся вы-, яснить, что наше знание о геометрии не является относительным, тогда мы сможем быть уверенны-ми в истинности любого подобного знания.
Согласно Гуссерлю, геометрия должна иметь-цсторическое происхождение. Она возникла как первоначальный интуитивный импульс некоего> реально существовавшего человека. Однажды в доисторическое время какой-то индивидуум интуитивно пришел к пониманию существования. прямой линии, расстояния, и может быть даже.
18
точки. Эти исходные понятия должны были обладать ясным, неопровержимым, изначально осознанным интуитивно значением. Ався остальная геометрия просто выводится на основании логических заключений из этих интуитивно осознанных предпосылок. Еще в Древней Греции Евклидом было показано, каким образом структура геометрии строится на основании ограниченного количества базовых идей. Геометрия уже «где-то там» существовала в ожидании того исторического момента, когда же ее, наконец, откроют. Исходные понятия были осознаны интуитивно, а все остальное оспорить было уже нельзя, ничего относительного, никакого релятивизма. Прочие виды научного и даже философского знания возникли таким же путем. Да, в полном соответствии с феноменологическим анализом основой знания является интуиция (с точки зрения происхождения). Но оно отнюдь не является относительным, потому что на основании интуитивно осознанных предпосылок логическим путем выявляется структура, которая каким-то образом уже существовала «где-то там» в ожидании своего открытия человечеством.
19
Деррида был уверен в том, что эта аргументация содержит апорию, то есть неразрешимое внутреннее противоречие. Именно в заочном споре с Гуссерлем на страницах введения к «Происхождению геометрии» были заложены основы всей философской позиции Дерриды. Французского мыслителя не интересует «философия» как таковая, его задача заключается скорее в критике философии, «исследовании самой возможности философствования». Он ставит под вопрос сами основы философии и ее способность функционировать на своих же собственных условиях. В структуре философии изначально заложена апория, а значит, последовательная аргументация в ее рамках в принципе невозможна. Речь уже не идет о частном споре по поводу основ геометрии, автор ставит под вопрос саму возможность существования философии. А следовательно, и основу всякого знания.
По Дерриде, Гуссерль видел в геометрии совершенное знание, которое существовало в царстве вечной истины. Знание это являлось бесспорным и оставалось истинным вне зависимости от восприятия или интуиции человека. По мнению Дерриды, никакой акт интуиции, якобы
20
имевший место в доисторическое время, не имеет отношения к дальнейшему историческому восприятию геометрии как парадигмы всей научной и философской истины — истины идеальной, бесспорной и не нуждающейся в доказательствах. Деррида решился это опровергнуть. Даже если базовые концепты подобного истинного знания были интуитивно осознаны в какой-то исторический (или доисторический) момент времени, сама истина никак не зависела от жизненного опыта. Согласно Гуссерлю, она всегда существовала «где-то там» в ожидании своего открытия человеком. Значит, эта истина никак не могла основываться на жизненном опыте человека. Она не была проинтуирована сознанием, а ведь именно акт интуиции является необходимым условием всякого познания, согласно феноменологии. В самой сердцевине философского аргумента, как выяснилось, лежит апория. Следовательно, и само наше понятие знания содержит логическое противоречие. Либо наше знание основано на интуиции, либо нет, и то и другое одновременно невозможно. А откуда нам знать, что геометрия находится «где-то там» в ожидании открытия?
21
А почему мы воспринимаем знание о геометрии как истинное? Наверняка потому, что применяем к нему логические операции, а не потому, что дсознаем интуитивно? Возможно, геометрия и является логической внутренне непротиворечивой системой, но откуда мы можем интуитивно получить это знание? Наше сознание является источником всех наших знаний, но что в нем дает нам возможность понять геометрические истины?
Эти вопросы могут показаться мелочными придирками, однако с их помощью можно вывести заключения, способные подорвать все здание западной философии и научного знания, на ней основанного. Похожие вопросы задавал йХайдег-гер, и ему удалось выяснить, что в основе всей структуры нашего знания лежит одна скрытая произвольная предпосылка. И предпосылка эта не имеет никакого отношения к индивидуальной интуиции, напротив, она чисто метафизического свойства, то есть находится за пределами нашего материального мира. Она не выводится ни из какого человеческого опыта. Хайдеггеру удалось доказать, что сама идея западной философии и сопутствующего ей научного знания опирается
22
на представление о том, что каким-то образом можно и должно найти абсолютную истину. Истина принадлежит некоему царству Абсолюта, где нет места относительному. И то самое «где-то там», местонахождение геометрии, было частью царства абсолютной истины, или «присутствия». Это также являлось гарантом истинности истины. Истина доказывалась самим своим присутствием. Она существовала (иначе бы она называлась отсутствием). Присутствие было абсолютным и гарантировало абсолютность истины. Персонификацией такого существующего присутствия могло быть лишь нечто, знающее обо всем и Об истинности всего, в том числе и о себе. В этом и заключается смысл его истинности. Гарантом истинности всех вещей и является совпадение в этом нечто существования и знания.
Деррида же доказал, что это присутствие, га-рантистины, вскрывает еще одну an орию. Философ –екая идея истины, основанной исключительно на интуиции, оказывается несостоятельной из-за своих же внутренних противоречий. Единственным гарантом абсолютной истины является царство Абсолюта или присутствие Абсолюта. Любая конеч-
23
ная истина низшего порядка неизбежно будет относительной. Но конечный интеллект, ограниченный рамками своей интуиции, не имеет возможности узнать, в какой степени истинность познанного интуитивно соответствует настоящей истине. Это может гарантировать л ишь некий абсолют, который невозможно познать интуитивно.
При упоминании о «присутствии» истины неизбежно возникает призрак божественного «присутствия». В течение многих столетий гарантом абсолютной истины являлся Бог, который и есть истина. Без такого присутствия — будь то божественного или абсолютного — существование истины невозможно, и тогда остается лишь барахтаться в трясине релятивизма. Это имеет самое непосредственное отношение как к геометрии, так и к философии. Деррида объявил, что подобное положение вещей отменяет саму возможность существования философии. Теперь-то нам ясно, почему он не хочет считать себя философом!
В истории философии подобные аргументы звучат не в первый раз. Еще в XVIII веке шотландский философ Дэвид Юм предположил, что все наше знание основывается на опыте. Потом он
24
подверг это внешне ничем не примечательное эмпирическое предположение анализу, и выводы оказались совершенно поразительными. Эмпиризм, доведенный до своего логического завершения, обращает наше знание в ничто. По большому счету, мы не можем установить опытным .путем причинно-следственную связь: что мы в действительности наблюдаем — это то, как одно явление следует за другим во времени, а то, что одно явление является причиной или следствием другого. Точно так же мы не можем говорить, что воспринимаем тела: все, что нам дано в восприятии, — это совокупность чувственных данных. Мы даже не можем воспринимать самих себя. Мы не можем непосредственно испытывать существование своего «я»; ни одно впечатление, получаемое из внешнего мира, не может помочь нам представить себе личность; нет ни одного доказательства тому, что это так называемое «я» идентично себе в разные моменты времени. Сведя таким образом истину к опыту (и выступив предшественником феноменологического интуитивизма), Юм нанес философии серьезный удар. Но отнюдь не смертельный. Не удалось ему и уничтожить человеческое знание, а
25
тем более науку, которая вся строится на основе таких понятий, как причинно-следственная связь, протяженность во времени, идентичность и т.д. Юм всего-навсего продемонстрировал статус нашего знания. Наше опытное знание, не являясь логически упорядоченным, просто не выдерживает столкновения со строгим логическим анализом.
Иногда философия может полностью подорвать статус нашего знания. В теории оно может быть сведено к нулю. Но практика приобретения знания все равно не прекратится. В особенности это справедливо в отношении математики и «серьезных» наук вроде физики. Мы будем по-прежнему пытаться усовершенствовать наше знание научным путем, даже если антифилософы — Хай-деггер, Деррида и иже с ними — сумеют вконец дискредитировать понятие научной истины. Как ни парадоксально, мы даже продолжаем применять научные методы в тех областях, которые еще не получили статуса науки. Теория хаоса демонстрирует, каким образом движение крылышек бабочки в бразильских джунглях может в конечном итоге привести квозникновениюторнадо в Канзасе. При
26
составлении метеорологических прогнозов оперируют большим количеством переменных, значения которых настолько нестабильны, а эффекты варьируются так сильно, что предсказать погоду на сколько-нибудь долгий срок не представляется возможным. То же самое можно сказать и об экономических прогнозах, и о деятельности психоаналитиков. Тем не менее мы стараемся по возможности применять строгие научные критерии и в этих областях человеческой деятельности.
Опровержение существования геометрической истины и самой возможности философствования, проделанное Дерридой, можно подвергнуть критике с его же собственных позиций. Доказав, что истины не существует, он тем самым утверждает, что и его доказательства не являются истинными. Позже мы увидим, что Деррида этого и йе отрицает и готов следовать своим логи^. ческим рассуждениям вплоть до их радикальных и опасных выводов. Но факт остается фактом — подобная теория (даже опровергнутая собственными внутренними противоречиями) бросает .вызов практической деятельности людей. Мыраз-виваем экономику и метеорологию, потому что
27
получаемые таким путем «необоснованные» знания помогают нам в жизни. Можно согласиться с тем, что абсолютной истины не существует, как не существует гарантии точности наших знаний. Тем не менее никому в голову не придет сомневаться, что сумма углов треугольника равна 180 градусам. По сравнению с атомом электрон — все равно что иголка на футбольном поле, но несмотря на это, нам удалось в точности предсказать его поведение. Компьютерная промышленность целиком и полностью полагается на такие предсказания. Мы принимаем на вооружение и другие, не столь «математические» истины, например теорию эволюции Дарвина, формулу структуры ДНКи т. д. Как ни парадоксально, даже признав, что абсолютной истины не существует, мы совершенно не признаем опровержения этих «неабсолютных» истин иными методами, кроме научных (то есть опытным путем). Одно дело признать истину относительной с точки зрения абсолюта, и совсем другое — обращаться с ней как с таковой. Деррида, скажем, навряд ли стал бы отрицать ту «истину», что за время холокоста были уничтожены миллионы евреев. Возможно, западная ци-
28
вилизация действительно изобрела противоречащее само себе понятие абсолютной истины, однако безданного внутренне противоречивого понятия она просто развалится. То, насколько Дер-риде удалось разобраться с этой проблемой и «невозможностью» существования философии, и определяет его статус как мыслителя.
В 1965 году Деррида начал преподавать историю философии в Ecole Normale Superieure. В это время он примкнул к недавно возникшей группе парижских интеллектуалов, сотрудничавших в авангардистском журнале Tel Quel («Ну и что»). Несмотря на легковесное название, это был вполне серьезный журнал, не какая-нибудь беллетристика. Целью его было создание нового «интеллектуального терроризма» для ниспровержения всех существовавших дотоле концепций литературы, литературной критики и философии. В работе над журналом в то или иное время принимали участие все новые ведущие философы Франции: Барт, Фуко, Кристева и Деррида. Если принять во внимание изначально неопределенные цели, естественно, что пути их в конце концов разошлись.
29
Деррида поставил перед собой цель (ни больше ни меньше) уничтожить «письмо» вообще, доказав, что оно неизбежно будет ложным. Одной рукой писатель пишет, а другая что делает в это время? Все написанное, любой текст обладает собственной скрытой идеологией, содержит некие метафизические предпосылки. В особенности это касается собственно языка. А писатель нередко не отдает себе отчета, что используемыр им язык искажает и его мысли, и значение написанного. В своей работе «Письмо и различие» (1967) Деррида подвергает критике отца-родоначальника французской философской мысли, первого философа нового времени, рационалиста Декарта (XVTI век). Декарт пытался найти высшую интеллектуальную истину при помощи рассуждения. Начал он с систематического сомне-. ния, чтобы отбросить ненужное, и в результате –оказалось, что ничего нельзя утверждать с точностью. Органы чувств могут обманывать, даже чувство реальности нет-нет да и подведет — мы не всегда отличаем сон от бодрствования. Возможно, и уверенность в точности математики тоже была плодом нашептываний какого-нибудь ко-
30
варного демона (спустя 300 лет Деррида взялся это доказать). Но в конце концов Декарту удалось найти то единственное, в чем он не мог усомниться. Это знаменитое утверждение Cogito ergo sum (Я мыслю, следовательно, я существую.) Мир может обманывать как хочет, но усомниться в том, что мыслишь, невозможно.
Деррида с этим не согласился. Он пришел к выводу, что Декарта подвел используемый им язык. Философ был просто не в состоянии «выйти» за рамки языка, которым мыслил, языка со всеми его скрытыми предпосылками и структурой, ограничивающей и искажающей мысль. Сама динамика и способность к развитию языка в значительно большей мере способны завести мысль на ложный путь, нежели ошибки чувственного восприятия. Противоречия «…заложены непосредственно в сущности и идее языка, языка в самом широком смысле слова».. Например, только грамматика и не что иное заставила Декарта прийти к выводу: «Я мыслю, следовательно, я существую». Как доказал впоследствии Юм, единственное, в чем мог быть уверен Декарт, — это в параллелизме явлений мышления и существова-
31
ния, что совсем не подразумевает идентичности этих явлений или какой-либо причинно-следственной связи {следовательно, я существую) между ними. Может быть, подобный ход мыслей (я мыслю — я существую) и есть выражение опыта существования, ведь как указал позже Хайдег-гер, наше изначальное ощущение «бытия-в-мире» какраз является той самой интуицией, которая согласно феноменологии пребывает за пределами понимания разума и науки.
В другом классическом труде данного периода «О грамматологии» (1967) Деррида разрабатывает понятия, ставшие впоследствии основополагающими для его критической мысли. Важнейшим из них, в особенности в том, что касается атак на философию, стало понятие неразрешимости. Одним из наиболее глубоко укорененных скрытых смыслов западной философии является базовое правило логики, часто именуемое законом исключения третьего. Это правило — своего рода ключ к понятию идентичности, и в первой своей формулировке, данной Аристотелем, звучит так: «Между утверждением и отрицанием третьего быть не может». Другими словами, выска-
32
зывание может быть либо истинным, либо ложным, оно не может быть ни тем, ни другим, или же и тем, и другим одновременно. Исключения из этого правила были замечены задолго до Дерриды. Например, предложение «это высказывание является ложным» является логически противоречивым при соблюдении всех формальных условий. Предложение «Он неуклюже улыбнулся» можно толковать и как лишенное смысла (вследствие неправильного приложения категорий), и как обладающее метафорическим, поэтическим смыслом (описание улыбки пухлого младенца). Вообще все поэтические высказывания, да и образы искусства в целом, противоречат правилу исключения третьего. Возьмем, к примеру, знаменитое шекспировское: «Весь мир — театр / все люди в нем актеры». Разумеется, мир не представляет собой деревянную сцену, вокруг которой сидят зрители, но в определенном метафорическом смысле мы играем в жизни, подобно тому как актеры играют роли в театре. Образ, как и картина, в одно и то же время и не является, и является тем, что изображает. Помимо этого существуют еще метафизические высказывания, которые не-
33
возможно проверить («за пределами нашей Вселенной находится вечность»); другие высказывания могут быть правильными с точки зрения грамматики, но лишенными всякого смысла («Собирались северные столы сурово снять стопы со стены»).
Но Деррида пошел еще дальше. Он полагал, что вся предшествующая ему философия заблуждалась, пытаясь отыскать некую заложенную в «сущности вещей» истину. Вместо этого стоило бы заняться анализом используемого в философии языка. Аязыкне обладает какой-либо существенной связью с объектами или даже идеями, которые он призван называть и описывать. Язык — это всего-навсего система, состоящая из отличающихся элементов, и именно из этих различий и образуются значения и смыслы. Все оттенки смыслов, имеющиеся в языке, совершенно невозможно загнать в простые рамки логики идентичности.
Деррида объявил, что вся западноевропейская мысль и особенно философия базируется на принципе бинарности, имплицитно заложенном в законе об исключении третьего. Наша концепция определения целиком строится на оппозици-
34
ях. Высказывание может быть либо истинным, либо ложным. Что-либо может быть либо живым, либо неживым. Находиться оно может либо снаружи, либо внутри, сверху или снизу, высоко или низко, слева или справа. И так мы все делим на оппозиции и классифицируем полученный опыт, чтобы.придать ему смысл: позитивное/негативное, общее/частное, тело/разум, женское/мужское. Очевидным недостатком данного метода является то, что значение каждого термина здесь напрямую зависит от значения другого. Другими словами, процесс определения превращается в замкнутый круг, он соотносится скорее с самим собой, нежели с реальностью, которую призван описывать. Деррида видел в этом общую погрешность законов логики и всей системы мышления. Они основывались на метафизической предпосылке, что якобы описывают некую реальность й что элементы этой реальности логически взаимосвязаны. Структура логики автоматически накладывалась на реальность. При подобном образе мыслей априори подразумевались не только существование некоей истинной реальности, где «присутствовала» абсолютная истина, но и логич-
35
ность этой реальности. Сама идея того, что наличие абсолютной истины может противоречить законам логики, была немыслимой.
Сознание, при помощи которого происходит наше интуитивное познание мира, находится вне пределов действия логики. Оно не может интуи-ровать какого-либо «присутствия» абсолютной истины. Познать себя и мир мы можем только при посредничестве нашего сознания и «зеркала языка». Сознание и язык — вот то, на чем зиждется все наше знание, вот что его создает. Но в то же время этот процесс, протекающий вне сферы действия разума и логики, остается зарамками методов приобретения знаний — логики, рассуждения и т.д. Те различия, что придают смысл элементам языка, с помощью логики превращаются в отличительные признаки, идентичности, истины. По мысли Дерриды, подобное противоречие неизбежно должно подрывать «истинность» знания.
Согласно Дерриде, наше знание о мире, построенное по понятиям логики, идентичности и истины, в основе своей опирается на апорию. Оно является результатом внутреннего противоречия. Еще раз заметим, что Деррида сам себе противо-
36
речит. Если из-за внутреннего противоречия наша логика дискредитирует сама себя, то и доказательства Дерриды, выстроенные по образцу этой логики, также являются автоматически дискредитированными.
Впрочем, аргументы Дерриды далеко не новы. Еще до Юма ирландскому философу-эмпирику Беркли удалось «опровергнуть» математику, к его вящему удовлетворению, при помощи законов самой математики. Он указал наряд противоречий в этой на первый взгляд безупречно логичной системе, устранить которые можно было, лишь приняв на веру определенные произвольные правила. Следовательно, логические пробелы были свойственны и математике, например:
12x0 = 0
13x0 = 0
Следовательно, 12x0=13x0 Разделив обе части на 0, получим 12=13
Согласно Беркли, единственным способом устранить эту аномалию было введение произвольного правила о том, что умножать на ноль можно, а делить нельзя. Еще более разрушитель-
37
ным был следующий аргумент Беркли. Он указал на внутреннююлогическую непоследовательность в вычислениях Ньютона. Ньютон ввел в обращение так называемые бесконечно малые величины, но при вычислениях то принимал в расчет их существование, то забывал. Это было явным нарушением закона об исключении третьего—либо бесконечно малые величины существуют, либо нет. Далее, хотя Беркли, как мы заметили, воспользовался упомянутым законом логики, он решил опровергнуть и его (опять-таки при помощи логики). К моменту появления на свет Дерриды демонстрация логических погрешностей в системе математики и через нее дискредитация «точного» знания достигла своего апогея. В 1931 году австрийский математик Гедель сумел доказать, что математика в принципе не может быть абсолютно точной, пользуясь опять-таки методами математической логики. Любая система, построенная строго по законам логики, в том числе и математика, непременно будет содержать определенное количество предположений, которые невозможно ни доказать, ни опровергнуть, опираясь на базовые аксиомы системы. По сути, это
38
доказательство гораздо сильнее подрывало престиж математики, чем все, что удалось изобрести Дерриде. Подразумевалось, что математика сама по себе является источником математических противоречий. (Тем самым нарушался и закон об исключении третьего. Указанные предположения не были ни истинными ни ложными в рамках системы.)
Как мы видели, Деррида хотел пойти еще дальше и доказать несостоятельность логики как таковой, и что бы он потом ни утверждал, сделал он это посредством логической аргументации. Добавляет ли Деррида что-то новое к аргументам Беркли и Юма 250-летней давности или «конечному» аргументу Геделя — вопрос спорный. Противопоставление интуиции и рационального мышления уходит корнями в глубь веков — вплоть до времен древнегреческой философии. На это Деррида бы возразил, конечно, что интуицию и разум вообще нельзя сравнивать или по крайней мере что подобное сравнение не может дать требуемых точных результатов.
Математика и наука в целом пережили и Юма, и Беркли и не прекратили свое существование пос-
39
ле аргументов Геделя. Критика Дерриды, судя по всему, не возымела большого эффекта. Что это может означать? Конечно, для математики и математиков было большим ударом узнать, что не такая это точная наука, как считалось ранее. Другое дело — прочие науки. Для них подобная ситуация была совершенно естественной. Во всяком случае со времен Галилея. Ученый выдвигает научную теорию, а потом, в зависимости от результатов научного эксперимента, то есть реальных условий, она модифицируется (или от нее полностью отказываются). Научная истина никогда не претендовала на то, чтобы быть абсолютной, и ученые уже в течение нескольких столетий не рассматривали ее как таковую. Теории Галилея были исправлены Ньютоном, Ньютона в свою очередь заменил Эйнштейн. Научная истина — это рабочая истина, а не абсолютная. То же самое, наверное, в несколько меньшей степени можно сказать и о человеческом знании вообще. По мнению Дерриды, мы упускаем из виду одно важное обстоятельство. Для большинства из нас знание подразумевает «присутствие» некой абсолютной истины. При ближайшем рассмотрении и этот аргумент не выдержива-
40
ет критики. С историческими истинами мы обращаемся также, как и с научными. Взять, к примеру, такой исторический факт, как холокост. Мы верим в истинность этого события потому, что у нас есть тому доказательства, и естественно, что возможны различные толкования и модификации данного факта. Холокост для нас — научная истина, а не абсолютная.
Однако Деррида не ставит перед собой задачи только лишь негативного свойства. Ничего подобного — его основной целью, по его же словам, является включение тех элементов, которые во имя логики и ясности мышления исключаются из сокровищницы нашего интуитивного сознания.
Загоняя свой опыт в рамки логического знания, мы, таким образом, очень многого лишаемся. И этот аргумент не нов. Знание является абстрактным — оно абстрагируется от опыта. Латинский корень этого слова означает «отводить», «выводить», в непрямом смысле — редуцировать, ограничивать целое. Процесс абстрагирования начал практиковаться человеком не в целях поиска абсолютной истины, а просто для выживания. Это помогало извлекать пользу из получен-
41
ного опыта, давало некоторую власть над окружающим миром, в принципе чисто технический, научный метод, только много позже заявивший претензии на статус «абсолютной истины».
Однако Дерриду прежде всего интересует способ применения знания, будь то интуитивного или так называемого логического. Каким образом мы выражаем свои мысли и знания? С помощью языка. Но язык не является ни абсолютным, ни точным, ни логичным. В каждом слове, каждой фразе и даже способе построения предложений заложены возможности появления двусмысленностей, искажающих значение. Язык избегает ясности и точности. У каждого слова есть свое значение или несколько значений. Но с каждым словом связывается также неограниченное количество более или менее скрытых коннотаций. Среди них — игра слов, аллюзии на другие смыслы, внутреннее сходство, возможность разных толкований, расходящиеся значения корней, двусмысленности и т.д. В устной речи нередко бывает и намеренное изобретение двусмысленностей. Комедиант делает акцент на какой-то совершенно невинной фразе и открывает простор для дру-
42
гих, отнюдь не невинных толкований. При определенных условиях некоторые высказывания невольно могут содержать прямое противоречие («Белый дом не собирается никого обелять»).
То же самое происходит и в письменном языке. Читатель вправе привносить свое собственное толкование, отношение, намерение. Слова, по своей сути и без того неоднозначные, превращаются в предмет читательской интерпретации. Деррида идет в своем анализе еще дальше. При отсутствии «позитивных условий» идентификации (то есть четкой системы противопоставления значений); утверждает он, различие приводит к полной текучести языка на уровне смыслов подтекста. Нет идентичности — нет и концептов, потому как идентифицирующие понятия становятся немыслимыми в прямом смысле слова. На этом уровне язык, существующий среди бесконечной текучести игры слов и парадоксов, совершенно избегает ясности значений. Тем самым язык избегает и метафизического «присутствия» абсолютной истины, которую старается ему навязать западноевропейская традиция. Этот уровень языка, в чем-то аналогичный человеческо-
43
му подсознанию, представляет собой первозданную творческую путаницу неразрешимостей среди своих различий.
Еще раз напомним, что Деррида был не первым, кто указал на элемент неоднозначности в языке — поэты знали об этом с момента возникновения литературы. Возможно, именно этим обстоятельством можно объяснить первую реакцию на идеи Дерриды в Америке, где он выступил в университете Джонса Хопкинса в 1966 году Языковой метод Дерриды был воспринят как новаторская и интересная техника анализа художественной литературы. Применение такого метода позволяло вычленять в литературном тексте разнообразные аллюзии и значения, которые образуют отдельные подтексты в произведении. Критики получали новые возможности поиска и выявления скрытых намерений, метафизических предпосылок и косвенных многозначностей. С другой стороны, в лагере философов Деррида встретил куда более прохладный прием. Что он этим, собственно, хочет сказать?
Отвечая на этот вопрос, Деррида уклоняется от точных формулировок по примеру избегающего точных значений языка (в его теории). Но язык
44
имеет значение. Он возник как средство коммуникации. Даже когда коммуникация сводится к простой демонстрации власти говорящего над слушающим, не облеченной в слова, если один кричит на другого, — исходным намерением все равно было вступить в контакт. Коммуникация по-прежнему остается целью существования языка, вне зависимости от точности передаваемых смыслов. Литература как вид искусства постоянно играет с языком и на языковой неоднозначности, но даже в этом случае дело редко доходит до абсолютной бессмыслицы (без-смыслицы). Сила воздействия дадаизма, сюрреализма и прочих измов как раз и возникает из нарушения привычных смыслов слов, вызывания новых ассоциаций и тому подобного. Будь это не так, любой лишенный смысла текст обладал бы аналогичным эффектом.
Так какой же смысл имеет анализ Дерриды? Деррида демонстрирует нам, что любой текст содержит большое число конвенциональных элемен-товисобственныхкодов. Он показывает не то, что означаеттекст,акакимобразомтекстщ>иобретает значение. Другими словами, упрощает текст. Метод упрощения и разграничения смыслов, зало-
45
женных языком в текст, пользовался большой популярностью среди философов древности. В качестве примера Деррида приводит сцену из платоновского диалога «Фёдр». Платон рассказывает миф о египетском боге Тоте, где бог объясняет египетскому фараону важность и нужность обучения подданных письму. Научившись писать, подданные смогут усовершенствовать память и стать мудрее. Тот заявляет: «Мое изобретение — это лекарство (фармакон) для укрепления памяти и разума». Фараон возражает, что умение писать приведет к прямо противоположному эффекту: «Это изобретение будет способствовать росту забывчивости в душах тех, кто перестанет упражнять память, полагаясь на верность написанного». Открытие Тота является фармакономлш напоминания, а не запо –~ минания, не собственно памяти. Тоже самое можно сказать и о мудрости. Фараон указывает, что написанное демонстрирует лишь видимость мудрости, а не мудрость как таковую, и письмо будет способствовать возникновению иллюзии о мудрости, а не развивать разум.
Платон, говорит Деррида, использует в своем мифе типичную бинарную систему противо-
46
поставлений, либо/либо. Либо умение писать укрепляет память, либо ослабляет. Хотя в действительности может иметь место и то, и другое. Далее Деррида анализирует слово фармакон. В греческом языке оно имеет несколько значений — «лекарство», «снадобье», «эликсир» (от этого же корня произошло слово «фармацевтика»). Но фармакон может также означать «яд», «колдовство», «чары». Таким образом, понятие фармакон заключает в себе смыслы, выделяемые обеими спорящими сторонами. Умение писать может способствовать как улучшению запоминания, так и ослаблению памяти. Значит, значение слова фармакон в данном контексте становится нестабильным, и как следствие, появляется различие (difffirence). Понятие идентичности, бинарные оппозиции или/или исчезают, и мы погружаемся в многозначность различия. Стройность логического рассуждения Платона рушится, и взамен появляется неразрешимость.
Неудивительно, что ход мыслей Дерриды не произвел благоприятного впечатления на американских философов. Возможно, подобный анализ и подходит для литературной критики, но что
47
у него может быть общего с философией, с требованиями ясности, предъявляемыми кфилософ-скому аргументу? Казалось, единственной целью Дерриды было сбить всех с толку, лишить смысла понятия и установки, а ведь цель философии, напротив, устранить многозначность. Какой смысл в том, чтобы заново ее вводить? У Дерриды на это было два возражения. Во-первых, он пытается показать правила функционирования, философии, ее предпосылки, истины и скрытые коды. Во-вторых, он указывает на вполне реальный факт многозначности, заложенной в самом существовании любого языка. Язык избегает идентификации с каким бы то ни было объектом реальности, и игнорировать это — значит игнорировать язык, какой он есть в полном его объеме. Не только философам пришлась не по нраву аргументация Дерриды. Ученые посчитали ее тривиальной бессмыслицей. Научный закон остается в силе, пока его не опровергнут, а это происходит не при помощи словесных уловок. Юристы и политологи восприняли теории Дерриды как шутку. Как Деррида и предсказывал, каждый остался верен своим правилам и сохранил свои установ-
48
ки в пределах собственного контекста. Насколько им удалось это осознать, если это вообще имеет значение, — уже другой вопрос.
Деррида назвал свой вид аргументирования (или, если хотите, философский подход) «деконструкцией». В принципе, это более или менее точное описание того, что он делает. А именно демонтирует власть монументальности текста, и взамен одного значения появляется множество. После первой лекции Дерриды, прочитанной в университете Джонса Хопкинса, деконструкцио-низм как интеллектуальная доктрина начинает быстро набирать вес. Деконструкция, неразрешимость, апория, различие и тому подобные выражения становятся модными словечками в студенческих кампусах. Йельский университет и университет Джонса Хопкинса встретили новую теорию с энтузиазмом, другие учебные заведения так же активно ее отвергли. Раскол среди американских ученых вскоре повторился в мировых масштабах. В общем и целом французские и прочие философы континентальной Европы были готовы прислушаться к Дерриде, Великобритания и другие англоговорящие страны отвергли его теорию.
49
Бинарное упрощение такого рода нашло отражение и в общенаучном плане. Теория Дерриды обрела поклонников среди представителей литературоведения и философии, представители естественных наук посчитали все это полной чепухой. Одним словом, в царстве относительной истины не нашлось места относительности.
В мае 1968 года Париж захлестнули так называемые События (Les Evenements). Группы бунтующих студентов вышли на улицы, и весь Левый берег Сены превратился в место жестоких столкновений между молодежью и силами охраны правопорядка. Полиция применяла слезоточивый газ и водометы, студенты кидали в ответ камнями-, строили баррикады и в конце концов захватили Сорбонну, что позволило им контролировать весь Париж к югу от Сены. Бунт вскоре распространился и на другие университеты Франции, на некоторых крупных фабриках спонтанно вспыхнули забастовки в поддержку студентов. Жизнь в стране практически остановилась. Многие французы симпатизировали студентам, но опасались развала государства. Этот всплеск насилия со сто-
50
роны молодежи был следствием многолетней авторитарной государственной политики, в особенности в последние годы,.когда патриархальное правительство стареющего генерала Шарля де Голля привело страну в состояние полного застоя. В 60-е годы повсюду в мире — в том числе и в Америке, Великобритании и Германии — происходили изменения в социальной и культурной жизни. Но на Францию, казалось, ничто не могло повлиять: ни демонстрации против ядерного оружия и войны во Вьетнаме, ни изменения в общественных нравах, сопровождавшие появление рок-музыки и распространение движения хиппи, ни даже послевоенный расцвет экономики и всеобщее изобилие. Особое давление молодежь испытывала со стороны системы образования. Школьная программа, до крайности формализованная и негибкая, служила подготовкой к кошмару всех школьников — экзамену бакалавриата (baccalaureat), от успешной сдачи которого зависело все будущее человека. Учебная программа была настолько формализованной, что министр образования мог точно знать, какую страницу какого учебника в данный конкретный момент времени изучают
51
школьники по всей стране. Высшее же образование, которое можно было получить, пройдя через все описанные школьные мучения, вряд ли того стоило. Студентов ждали переполненные аудитории, куда в принципе не могло поместиться более половины учащихся, устаревшее оборудование, бесполезные и неинтересные предметы, которые вели дряхлые и неквалифицированные преподаватели, не говоря уже о тяжелых бытовых условиях.
Новая постсартровская волна парижских мыслителей — Фуко, Барт, Деррида и прочие, группировавшиеся вокруг журнала Tel Quel, — выражала протест против застояв общественнойжизни Франции.. В этом контексте легче понять перегибы их политики. Настойчивость Дерриды в провозглашении «текучести» языка становится понятной, если подумать об авторитарных законах французской системы образования того времени. Его утверждения о «различиях» в языке были прямым вызовом господствовавшей линии лингвистической ортодоксальности. Эта линия упорно проводилась, да и сейчас проводится Academic Franchise (Французской академией наук), не прекращающей издавать
52
свои эдикты о поддержании чистоты французского языка (и о запрете «американизмов» и прочих заимствований из английского), а также определять точные значения французских слов. Можно себе представить, что лингвистические санкции такого порядка воспринимаются человеком как посягательство на его внутренний мир, ведь дело касается самого образа мыслей, тех слов, которые человек выбирает для формулирования этих мыслей. Носителям английского, не имеющим опыта подобных проблем, трудно их понять. Как-никак английскому языку ничто не угрожает, напротив, с каждым днем он все интенсивнее внедряется в языки других народов. Более того, именно благодаря своей способности адаптировать и поглощать чужой языковый опыт, и в то же время противостоять ему, английскому языку удалось сохраниться во всей противоречивой целостности. (Приведем для сравнения историю арабского языка. Классическая арабская письменность используется во всем арабском мире от Марокко до Филиппин, а вот варианты разговорного арабского различаются настолько, что жители соседних стран подчас не понимают друг друга.) Английский вариант английского, служив-
53
ший языком общения на всей территории Британской империи, с середины XX века обрел новую жизнь благодаря американскому английскому. К этому времени английский английский успел породить богатое разнообразие американского, индийского , австралийского и африканского вариантов с их произносительными и грамматическими" особенностями, оставаясь тем стержнем, который позволяет сохранить языку целостность. Многие из американских критиков Дерриды, опираясь на этот факт, утверждают, что характерные для французского философа атаки наязыковые структуры, каки их философские выводы, утрачивают свою актуальность для англоговорящей части мира. Мы и без того знаем, что язык способен жить самостоятельной жизнью, что слова могут приобретать новые оттенки значения или даже новые смыслы. Достаточно подумать о судьбе таких слов, KaKgaymiH freak(1),чтобы стала очевидной непрерывная изменчивость состояния английского языка. Во многом Деррида
(1) Gay (англ.)—первонач. «веселый», потом «беспутный», в наст. вр. употребляется в значении «гомосексуалист», «голубой».
Freak (англ.)– первонач. «уродец», потом «странный человек», «чудак», в наст. вр. разг. «помешанный», «ненормальный», «сумасшедший».
выступил как борец за ту свободу, которой носители английского языка обладают от рождения. Хотя это, безусловно, не являлось его основной целью, основная его цель была—доказать абсолютную текучесть абсолютно всех языков.
В начале мая 1968 года Деррида играл активную роль в революционных событиях, принимал участие в маршах протеста и демонстрациях. Он даже организовал в Ecole Normale Superieure ассамблею, в рамках которой велись открытые дебаты между студентами, симпатизирующими им преподавателями и заезжими модными знаменитостями интеллектуального мира, которым тоже хотелось быть в курсе последних происшествий; На одном из подобных собраний, только в Сорбонне, выступал и Сартр, но его быстро освистали. Сколько бы он ни симпатизировал студентам, наделе он уже потерял контакт с этим поколением. Старикам было трудно понять устремления молодежи. Анархия, расплывчатость лозунгов и требований, популизм и нередко откровенно филистерские установки молодых революционеров в итоге оттолкнули и самого Дерриду. Да и как было вогнать в рамки какой-либо интеллектуаль-
55
ной идеологии бурные эмоции юности, что рвались из надписей на стенах: «Под каждой улицей — пляж», «Завтра сияет уже сегодня» и «Мы — это письмена на стенах». Сартру это тоже было не понять. Деррида продолжал симпатизировать студентам, но делал это молча. Да и что он мог сказать посреди рева революции?
Весь мир смотрел в изумлении, как культурная столица мира превращается в лагерь анархистов. Де Голль в панике бежал в Германию, чтобы посоветоваться со своим высшим военным командованием (возглавлявшим оккупационные войска французского сектора бывшей Западной Германии). Военные поддержали де Голля, а неорганизованное восстание заглохло само собой, когда студенты разъехались на каникулы. Однако правительство получило хороший урок. К прошлому уже возврата не было. В течение последующего года де Голль ушел в отставку, а еще год спустя умер. Франция присоединилась к современному миру, вступив на дорогу популистской демократии и молодежной культуры. Рабочим повысили зарплату, студенты получили некоторые права. Популярность лекций Дерриды в Ecole
56
Normale Superieure росла. Сам философ, красивый, всегда одетый с иголочки, с непокорно развевающимися волосами, превратился в культовую фигуру.
Однако завоевание культового статуса не обошлось без некоторой смуты в лагере парижской интеллектуальной элиты. Сначала Деррида выражал сочувствие взглядам своего современника Фуко. Фуко тоже был довольно броской фигурой — всегда бритый наголо, в дизайнерских очках и светлых спортивных водолазках. Если Фуко исповедовал релятивизм в культуре, то Деррида — в лингвистике. Оба считались вождями направления, получившего название постструктурализма. В постструктурализме всякое знание полагается текстуальным (то есть имеющим релятивистскую интерпретацию текста). И история, и психология, и философия, и антропология имеют дело не столько с концепциями, сколько с различным употреблением слов. Для Фуко это означало существование эпистем, или парадигм знания, в которые инвестировалась власть. Эпистема — это характерная для каждой эпохи система мышления, которая направляет образ мыслей людей
57
этой эпохи, задавая соответственно объекты и темы мышления, определяя лакуны в мышлении и даже исключая возможность мышления в определенных направлениях. Так, в Средние века считалось, что мир состоит из первоэлементов: земли, воды, воздуха и огня и их комбинаций,— поэтому даже представить себе существование атомов было невозможно. Со сменой эпох — например, при переходе от Возрождения к эпохе Просвещения, — устанавливалась совершенно новая эпистема знания. Воплощение эпохи Просвещения Фуко видел в Декарте. Декарт использовал разум, чтобы поставить под сомнение все и разобрать на мелкие части самые основы своего существования (а следовательно, и все аксиомы предшествующей эпохи и ее эпистемы), а потом установил свою базовую аксиому «я мыслю, следовательно, я существую». Но Деррида подверг критике анализ Фуко. При описании метода Декарта Фуко сам прибегнул к языку рациональности, а значит, подчинился влиянию эпистемы эпохи Просвещения. Сомнение Декарта по сути неумышленно ставило под удар и самый разум, который он хотел утвердить как высшую цен-
58
ность. В существовании разума тоже можно было усомниться. Текст Декарта можно было подвергнуть и более смелой интерпретации, чем та, что представил нам Фуко. Предположение, что мысль способна вырваться за пределы того языка, который описывает, — это чистой воды иллюзия.
Неудивительно, что Фуко довольно резко отреагировал на эту критику, которая угрожала всему его интеллектуальному проекту (а по большому счету, любому интеллектуальному проекту человечества). По мнению Фуко, педантичная атака Дерриды была всего-навсего интеллектуальной игрой. Ссора двух ученых привела в итоге краско-лу в постструктуралистском движении. Фуко сохранил установку на анализ текста, в особенности исторического документа, он настаивал, что таким образом возможно выявить структуры власти, заложенные в конкретном документе. Эпистема, контролирующая и ограничивающая написание текста, подразумевает и наличие определенной системы политической власти. Такой исторический текст возможно интерпретировать вполне конкретным образом. Дерридаже настаивал, что, как и любой текст, исторический документ открыт для
59
бесконечного количества интерпретаций. Точка зрения на любой исторический документ менялась с веками. Возможно, это и позволяло освободить его от какой-нибудь авторитарной интерпретации, но в то же время позволяло Дерриде заявлять, что такой текст можно интерпретировать совершенно любым образом.
Деррида разошелся во мнениях и с Роланом Бартом, другим современным ему мыслителем из Парижа. Однако в этом случае расхождения не привели к ссоре и были гораздо менее основательными. Барт был признанным специалистом в семиологии, науке, изучающей текст на предмет поиска значений «второго порядка». Невинный читатель, пытающийся обнаружить в тексте заложенные автором смыслы, считался знатоками безнадежно наивным. Настоящее значение текста можно было найти только путем анализа структуры взаимосвязанных знаков и символов, скрывающейся в подтексте. Барт не стал ограничиваться философскими и литературными текстами и смело распространил свой аналитический метод на такие мало связанные между собой продукты человеческой деятельности, как мода,
60
Эйфелева башня и даже спортивная борьба (под ковром, как оказалось, кишмя кишели всевозможные взаимосвязанные знаки).
Этот метод текстуального анализа привел Барта к заявлению о «смерти автора». Что бы там ни говорил автор, это не имело никакого значения. Автор являлся всего-навсего культурной конструкцией, продуктом класса, возраста, пола, социально детерминированных надежд и аппетитов, и тому подобного. В лучших своих образцах анализ Барта помогал вскрыть скрывающуюся под внешним слоем языка структуру предпосылок, демонстрируя, как язык превращает эти целиком и полностью произвольные предпосылки в «естественные», «универсальные» или даже «обязательные». Например, именно так обстояло дело с буржуазным романом и некритически воспринимаемыми культурными ценностями, составляющими его идеологическую основу.
Деррида испытывал по поводу так называемой «смерти автора» смешанные чувства. Конечно, он мог только радоваться при виде того, как Барт обнажает скрытые предпосылки и демонстрирует истинную природу «универсальных ценностей»
61
буржуазного романа — всего-навсего произволь^ ной конструкции из предрассудков и предположений. Это было вполне в ключе деконструктивиз-ма. Анализ Барта предоставлял еще одно доказательство трансцендентального «присутствия» западноевропейской метафизики, адемонстрация чисто гуманистического характера такого рода «истин» всегда оставалась актуальной. С другой стороны, Деррида не допускал возможности, что подобная критика может преодолеть гуманизм и, очутившись, так сказать, по другую его сторону, выносить суждения независимо от гуманистических установок. Ведь критики пользовались языком, который был основан и развивался на базе гуманистических предпосылок. Может показаться, что это замкнутый круг, но смысл аргумента ясен. Мы находимся в замкнутом круге собственного Дискурса. Наша речь всегда будет зависеть от языка, на котором мы говорим, и нам никак не. избавиться от его гуманистического характера. Для того, кто надеется отыскать независимую от обще-ственныхконвенций истину, подобнаяконцепция покажется крайне пессимистичной. Однако в этом можно найти и свои хорошие стороны. Та истина,
62
которую мы знаем, в том единственном виде, в каком мы можем ее узнать, неизбежно останется гуманистической. То есть «о человеке и для человека». Ксожалению, какие замедлили напомнить упрямые деисты и метафизики, тоже самое можно сказать и о метафизических и религиозных предпосылках, в течение такого длительного времени бывших частью языка. Деррида утверждает, что мы должны избавиться от их «присутствия», и в то же время заявляет, что избавиться от «присутствия» гуманизма невозможно. Непонятно, как он хочет совместить и то, и другое, — разве что в пространстве свободной интерпретации, где, по-видимому, противоречить себе тоже дозволяется.
К концу 60-х Деррида уже стал мировой знаменитостью. Его деконструктивистская теория стала одинаково модной — и одинаково скандальной — по обе стороны Атлантики. Теперь уже не одни только философы и ученые принялись отвергать теории Деррида, будь то под предлогом самоочевидности или чрезмерной усложненности. Некоторые же вообще считали их бессмыслицей. (Один известный английский академик договорился до того, что объявил деконструктивизм
63
самоочевидным, чрезмерно усложненным и бессмысленным одновременно. Пожалуй, самому Дерриде было бы не под силу деконструироваТь такое утверждение.) В то же время влияние бывших студентов Дерриды вышло за пределы Пари-.жа и Йеля. Но и силы реакции начали сплачивать ряды. В большинстве старых университетов по обе стороны Атлантики места деконструктивиз-му не нашлось. Автор мог умирать где хотел, слу-' хи же о смерти авторов университетских были сильно преувеличены.
В 1970 году в возрасте 70 лет от рака умерла мать Дерриды. В следующем году Деррида посетил Алжир, впервые с момента обретения страной независимости, и прочитал серию лекций в университете Алжира. Во время своего пребывания в столице он воспользовался возможностью посетить дом на берегу моря, где родился, детский сад, куда ходил ребенком, и прочие места, овеянные воспоминаниями детства. После смерти матери его «ностальжирия» стала особенно острой. Все чаще в его работах стали мелькать таинственные намеки на памятные места про: шлой жизни и косвенные замечания о связанных
64
с ними эмоциях. К чему такая скрытность, если ему нечего было скрывать? Должно быть, сказать открыто о таких вещах означало умалить их значение. Попытка подобрать для этих образов слова лишь заставила бы их поблекнуть, слова заслонили бы живую реальность воспоминаний. В данном случае мы опять встречаемся с фарма-коном, который одновременно лечит и отравляет, предает и стимулирует нашу память. Фармакон, или письмо, — это все равно что джокер, свободная карта в колоде, которая может означать все что угодно. Слова — это различие, а не идентичность. Нам следовало бы подумать не о том, что слова означают, а сколько всего они могут означать. Деррида хочет оставить свою память целой и невредимой — вот, собственно, причина его скрытности по отношению к фактам собственной, биографии.
Каждая последующая работа Дерриды — это яростный протест против ясностивязыке. В 1972году он опять написал три книги. Это были «На полях философии», «Позиции» (сборник интервью) и «Диссеминация». Последняя работа ясно демонстрировала, какое направление приняла мысль
65
Дерриды в последние годы. Основной темой «Диссеминации» вновь становится тезис о невозможности для текста обладать одним-един-ственным закрепленным за ним смыслом. Противостоять напоруразличия значений, игры слов, ассоциативной многозначности и подобных тому элементов невозможно. Все это приводит к диссеминации значений и разных интерпретаций. Предметом особого внимания Дерриды становится тот факт, что слово «диссеминация» перекликается с древнегреческим «сема» — значение (отсюда произошло современное понятие «семантика»). В то же время Деррида находит и сходство со словом «семя», то есть диссеминация — это извержение значения. Последнее эссе в «Диссеминации» так и называется. Как гордо признается сам автор, опережая незадачливых критиков, текст этот является «недешифруемым» и «нечитаемым». Как ни печально, но так оно и задумывалось. Деррида здесь достигает апофеоза «текстуальности» — так он называет бесконечную игру на различиях в значении, ассоциациях, неразрешимостях и тому подобном до полной потери смысла. Вот два примера, взятые наугад. Сначала
66
заголовок — «Двойное дно преднастоящего». И цитата: «Следовательно, экспроприация осуществляется не только посредством зашифрованного сжатия голоса, разновидностью пауз, расставляющих акценты, или скорее убирающих его оси из него или на него; экспроприация — это и внутриголосовая операция».
Но отдельные цитаты не могут дать настоящего представления о том, как далеко Деррида умудряется зайти в стараниях лишить свой текст какого бы то ни было значения и смысла. Любая попытка придать тексту толкование заранее обречена на провал. Мало того, с точки зрения автора толкование вообще не может принести ничего хорошего. Попытка придать тексту смысл просто-напросто уничтожит все другие смыслы, которые тоже имеют право на существование, а также воспрепятствует созданию будущих интерпретаций. Любое существующее значение, которое мы стараемся навязать тексту, будет всего лишь иллюзией, попыткой вызвать «присутствие» некоего абсолютного значения, абсолютной истины. Абсолютная же истина, как известно, —это заблуждение. Или, говоря словами неподражаемого маэстро: «Каждый раз письмо явля-
67
ется исчезновением, откатом, стиранием, отступлением, сжатием, поглощением». Наверно, лучше и проще всего описать сам текст и историю его создания.
Мнимое «эссе» Дерриды возникло как аннотация на книгу «Числа» современного французского писателя Филиппа Соллерса, еще одного участника группы Tel Quel. Как явствует из подзаголовка, «Числа» претендуют на то, чтобы быть романом. В начале стоит посвящение на русском, на следующей странице мы находим эпиграф по латыни, намекающий на безграничные высоты и глубины возможных интерпретаций («Seminaque innumero numero summaque profando» — «сей неисчислимый числом и в самой глубине»). А потом без дальнейших околичностей начинается роман: «…горела бумага, и возникала проблема всех нарисованных вещей и всех спроецированных картин, которые регулярно искажались, в то время как фраза гласила: внешняя поверхность существует». Еще через сотню страниц роман заканчивается словами: «…обгоревшая, отказываясь прикрыть свою квадратную поверхность и глубину — (1 + 2+ 3+4) 2 = 100(в тексте
68
вместо пропусков — две большие китайские идеограммы)». А в остальном роман Соллерса ни более ни менее чем роман. Хотя двойное отрицание в предыдущей фразе может означать что угодно, и так оно и есть. В романе полным-полно всяческих идеограмм, диаграмм и даже головоломок, которые соединяются между собой кусками по большей части несвязного текста, якобы соотносящимися друг с другом как осколки разбитого зеркала. Помимо этого, в тексте цитируются личности, казалось бы, не имеющие ничего общего. Это математик и религиозный мыслитель XVII века Паскаль, и Карл Маркс, и средневековый ученый и кардинал Николай Кузанский, и Фридрих Ницше, и Мао Цзэ-дун. Есть и цитаты из Бур-баки — под таким псевдонимом выступала непостоянного состава группа французских математиков, коллективно и анонимно ответственная за довольно-таки спорные математические открытия аксиоматического характера. Аксиоматический подход Бурбаки должен был свидетельствовать о том, что математики сами не знают, о чем говорят, и что их так же мало волнует, насколько сказанное соответствует какой бы то ни было ис-
69
тине. Сходство с постструктуралистской трактовкой текста, по-видимому, преднамеренное, а цитируемый метод как нельзя лучше описывает метод самого Дерриды.
Чего совсем нельзя сказать о Витгенштейне, также цитируемом в «Числах». Цель философии Витгенштейна была прямо противоположной цели Дерриды. Оба заявляли, что пришли к окончательному решению вопроса философии, после чего ее существование должно было прекратиться раз и навсегда. Оба утверждали, что ключ к решению проблемы находится в языке. Однако на этом их сходство заканчивается. Какрешает «вопрос философии» Деррида? Он просто взрывает язык изнутри, разбивая его смысл на мириады фрагментов, состоящих из многозначностей, парадоксов и лингвистических анекдотов. Таким образом, какое-либо связное философствование (как ц вообще все связное, если на то пошло) автоматически объявляется невозможным. Витгенштейн со своей стороны полагал, что философия возникла вследствие путаницы в значениях, каковая в свою очередь происходит при сочетании слов из несопоставимых категорий. (Например,
70
вопрос «В чем цель жизни?» вообще не имеет смысла, поскольку слова «цель» и «жизнь» принадлежат к несопоставимым категориям.) То, что мы называем философией, — всего-навсего результат ошибок в использовании языка. Если распутать эти языковые клубки, ошибки исчезнут сами собой. И Дерриду, и Витгенштейна объединяет то, что они оба видят философию как своего рода фокус. Но если Витгенштейн засовывает кролика обратно в шляпу и заставляет его исчезнуть, то Деррида, напротив, извлекает кроликов из шляпы как из рога изобилия.
Если «Числа» Соллерса — это осколки разбитого зеркала, то отзыв Дерриды немногим лучше. Проникнувшись духом философа, рискнем сравнить его текст с отражением отражения, или с отражением внутри отражения. Исходный текст цитируется, копируется и даже пародируется (возможно, и с умыслом, но без особого смысла). Вообще складывается впечатление, что загадочность исходного текста была воспринята Дерридой как личный вызов, и любой ценой должна была быть превзойдена. Деррида еще и утверждает, что любой отзыв на книгу неизбежно будет таким же:
71
«Каким бы длинным ни был перечень, как бы прямо ни было изложено написанное, все равно оно будет недешифруемым». Само собой, некоторые критики сумели найти более простой способ изложить свое мнение насчет опуса Соллерса и прилагающегося к нему эссе. У многих английских читателей сложилось такое совершенно «не-дешифруемое» мнение, как «чушь собачья». Даже искренние поклонники Дерриды надеялись, что эта работа — результат временного помутнения рассудка философа. И правда, куда это могло его завести? Что подразумевалось под заявленным им тезисом о «нечитаемости»?
Ответа не пришлось долго ждать. Через два года Деррида опубликовал «Глас». Опус состоял из двух непрерывных колонок текста. Как и в «Диссеминации», текст начинался с середины предложения и занимал добрые 300 страниц, время от времени перебиваясь выделенными пассажами наподобие ремарок и кусками цитат. Левая колонка, напечатанная немного более крупным шрифтом с меньшим расстоянием между строками, представляет собой в высшей степени оригинальное изложение философии немецкого мыс-
72
лителя Гегеля, периодически перебиваемое цитатами из него же. Правая колонка — это также обильно снабженный цитатами комментарий творчества французского лирического автора, по совместительству педераста и заключенного, Жана Жене. Каждый из этих авторов по-своему невыносим. Но в то же время трудно представить себе нечто более несовместимое, чем систематическая немецкая метафизика и систематическая французская педерастия. Дело совсем не в том, что мы испытываем антипатию к немцам или гомосексуалистам. И Гегель, и Жене на свой лад не хуже Дерриды издеваются над чувствами и ожиданиями простого читателя. Гегелю, с его предложениями величиной со страницу, набитыми бескомпромиссным метафизическим жаргоном, .спокойно можно присвоить звание де Сада от философии. Отношение кде Саду Жене несколько менее философское, но эффект в обоих случаях получается одинаково мучительный.
Так о чем же, собственно, «Глас»? Как мы уже догадались, решать это не нам. Кристофер Нор-рис, один из самых благосклонных критиков Дерриды, выразился следующим образом: «Глас» —
73
это не книга во всяком случае, не в общепринятом смысле слова. Унифицирующий принцип данного труда заключается в постоянных отсыл-кахна какой-то привилегированный источник авторской интенции». С другой стороны, набор и печать этой не-книги осуществлялись согласно очень определенной интенции привилегированного автора. Несчастные типографские рабочие не получили ни малейшего шанса заняться безграничной свободной интерпретацией. В тексте использовалось целых четыре вида шрифтов (по одному на каждую колонку, один для выделенного текста, еще один для цитат), не говоря уже о частом курсиве, абзацах по-немецки, древнегреческих и латинских словах. Далее, по оригинальному макету объем этой не-книги должен был составлять ровно 100 кубических дюймов. Каждая страница представляла собой квадрат в 10х 10 дюймов, соответственно в один дюйм толщиной. Я повторяю: дюймы. Комментарии французских наборщиков, привыкших работать в сантиметрах, наверняка бы привели в восторг самого Жене.
Но раз уж книга представлена на рассмотрение публики, у нас есть полное право пойнтере-
74
соваться, можно ли отыскать в ней хоть какой-нибудь смысл. Знаменитый диалектический метод Гегеля заключается в том, что некий тезис является источником собственного же антитезиса, . после чего они сливаются и образуют синтез. Например, «бытие» производит свой антитезис «небытие», а потом из них в процессе синтеза возникает «становление». Всеобъемлющая философия Гегеля целиком построена по этому принципу. Можно распознать диалектический метод и в «Гласе». Скажем, левая колонка с Гегелем — это тезис, высший образец высокой философии, придуманное Гегелем полное интеллектуальное оправдание существования авторитарного прусского государства ХГХ века. Тогда нетрудно истолковать как антитезис рапсодии Жене о «unjeune garcon blonde» (белокуром мальчике) или такую поэму: «Divine aime Gabriel, surnomme l'Archange. Pour l'amener & l'amour, elle mette un peu de son urine dans ce qu'elle lui donne a boire ou a manger*1 (моча архангела Гавриила используется в качестве
(1) Божественна любовь Гавриила, Архангелом прозванного. Для помощи в делах любви она добавляет каплю его мочи в питье или еду любимого.
75
приворотного средства). А синтез — он, вероятно, осуществляется в мозгу читателя, а может, и где-нибудь еще. Или, пользуясь блестящим объяснением Дерриды: «Его (синтеза) интерпретация требует привлечения гегельянского представления о праве, с одной стороны, и о политике, с другой. Его место в структуре и развитии системы… таково, что осуществляющиеся в нем перемещение и перевовлечение не могут иметь исключительно локального характера».
Любой бы подумал, что на этом можно и остановиться. Еслиуж«недешифруемое… нечитае-, мое» так или иначе создать удалось, казалось бы, цель достигнута. Но Деррида был другого мнения. Он носился по всей Европе, выступая с докладами, продолжал преподавать в Париже, читал лекции сразу в нескольких американских университетах. При всем этом он оставался потрясающе плодовитым автором. Даже на этой стадии количество производимых им «текстов» — от нечленораздельных статей до не-книг величиной с книги — исчислялось сотнями. Большинство полагает, что следующая его эпохальная работа вышла в 1980 году. Называлась она «Почтовая открытка:
76
от Сократа к Фрейду и дальше». Сократ никогда не посылал почтовых открыток, ни Фрейду, ни кому другому. Это легко выяснить, произведя элементарнейшую, но от этого не менее эффективную деконструкцию данного заголовка, если уж принимать метод Дерриды всерьез. Разобравшись с этой маленькой шуткой, можно приступать и к главной шутке, то есть тексту.
А он начинается с эссе о «почтовом принципе». Почтовый принцип, по мнению Дерриды, гораздо важнее фрейдовского «принципа удовольствия», с его помощью можно объяснить всю историю западноевропейской метафизики «от Сократа до Фрейда и дальше». Когда мы отправляем открытку или вообще некое послание, мы что-то отдаем, но в то же время воздерживаемся от акта отдавания. Большое внимание уделяется тому, что слова, обозначающие во французском пишущего (destinateur — франц. отправитель) и получателя (destinataire), связаны по происхождению со словами «судьба» (destiny) и направление, пункт назначения (destination). Ранее, рассуждая на эту же тему, Деррида пришел к такому выводу: «…письмо всегда может не дойти до пун-
77
кта назначения… структура письма такова, что всегда способна на недоставление». Большая часть труда посвящена рассмотрению психоанализа. Героическая попытка Фрейда поднять психоанализ до статуса эмпирической науки извращенно именуется метафизической, хотя именно этого Фрейд и хотел избежать. Но, по мнению Дерриды, любая попытка установить истину бу-. дет метафизической, вызывая призрак «присутствия», преследующий всю западноевропейскую философскую традицию. (Тот факт, что Фрейду так и не удалось поставить психоанализ в один ряд с такими «серьезными» науками, как физика, можно истолковать в его пользу. Раз уж основатель психоанализа не смог избавиться от метафизики, значит ему не удалось основать свою науку на метафизике.) Но даже посреди всего этого, иногда промелькнут запутанные мысли, которые стоят того, чтобы их распутать: «Реальность не является ни истинной, ни ложной. Но как только начинается речь, мы переходим в регистр поиска истины с ее признаками правильности — присутствием, речью, свидетельством». Речь, оперирующая понятиями «лжи» и «истины», описы-
78
вает реальность, которая не содержит в себе таких элементов. Философия, которая имеет дело с данной реальностью, неизменно располагает ее на уровень глубже, чем наука. Согласно описанному анализу, научное знание стремится описать результаты нашего столкновения с этой реальностью, а не саму реальность (или причины нашего с ней столкновения). Научное знание — это запись наших столкновений с реальностью. В этом-то, по Дерриде, и есть корень проблемы. Пузырек с мышьяком как таковой не является ни истинным, ни ложным. Ярлык «яд», который к нему приклеен, будь то истина или ложь, описывает скорее реальный результат возможного столкновения с этой реальностью, то есть отравления, а не само по себе вещество. Это истина научная, а не абсолютная. Ее можно проверить экспериментальным путем, не ссылаясь на какое-то абсолютное «присутствие».
В 1981 году странствия привели Дерриду в Прагу, которая тогда находилась за Железным занавесом. Деррида стал инициатором основания Ассоциации Яна Гуса (названной так в честь чешского мученика XV века, который выступал про-
79
тив церковных властей). Целью существования ассоциации была помощь чехословацким интеллектуалам, которые подвергались преследованиям со стороны правящего коммунистического режима. Подвергая риску себя и слушателей, Деррида провел недельный семинар, где помимо прочего изложил свою работу под названием «До закона». Название явно отсылало к одному рассказу Кафки, который большую часть своей жизни прожил в Праге. Несмотря на характерную для речей французского мыслителя темноту и загадочность, смысл их не остался загадкой ни для кого, включая тайную полицию. Она решила, что и второй слог в слове «деконструкция» придуман для маскировки истинных намерений. Дерриду обыскали, «нашли» у него коричневый пакет с марихуаной, после чего незамедлительно посадили под замок.
Франция очень серьезно относится к своим интеллектуалам, даже если в других странах им не приходится на это рассчитывать. То, что могло показаться чешским властям незначащим эпизодом с участием какого-то провокационного французского позера, парижская пресса восприняла
80
совсем по-другому. Национальная гордость Франции была поставлена под удар, и скоро президент Франсуа Миттеран собственной персоной и вопиюще недеконструированным языком высказал, что он по этому поводу думает. (Двадцатью годами ранее, когда полиция хотела арестовать Сартра за нелегальную политическую деятельность, вмешался лично президент де Голль, сказавший: «Нельзя посадить за решетку Вольтера». Тем самым Сартру невольно пришлось испытать на себе свою же экзистенциалистскую максиму, гласившую: «Человек обречен быть свободным».) Деррида был спешно освобожден и вернулся в Париж как герой. За год до этого умерли Сартр и Барт, еще три года спустя умрет Фуко, и тогда "мантия величайшего из живущих на земле французских интеллектуалов перейдет к Дерриде, по прямой линии от Декарта, через Вольтера, и далее от Сартра.
Деррида всегда считал, что деконструкцию можно использовать как инструмент в борьбе против авторитарной политики и несправедливости. В то же время «политику деконструктивиз-ма» не изложишь в манифесте и не проведешь в
81
жизнь в более или менее ясных или конструктивных поступках. Согласно Дерриде, «деконструкция должна искать новые способы исследования ответственности, ставя под вопрос унаследованные от этики и политики коды». Такая идеология могла, конечно, служить оправданием любой политической позиции. Несмотря на интеллектуальную неопределенность, Деррида лично играл важную роль в той борьбе, которая велась в 80-е годы за освобождение Нельсона Манделы и против системы апартеида в ЮАР.
Куда более скандальной и более опасной была его борьба против расизма во Франции, вечной темы местной политики, жертвами которой были иммигранты из Северной Африки. Деррида выступал за натурализацию иммигрантов под яростное недовольство оппозиции: «Право на голос — это тоже средство борьбы с расизмом и ксенофобией. Пока оно доступно не всем гражданам, в стране будет править несправедливость, демократические свободы будут ограничиваться, а борьба с расизмом — носить абстрактный и вялый характер». Как оказалось, наследник мантии Вольтера унаследовал также и ясный ум своего
82
предшественника в том, что касалось политической дискуссии.
С политикой феминизма дело обстояло несколько иначе. Если заменить бинарные оппозиг ции западноевропейской логической традиции — истинный/ложный, разум/тело, позитивный/негативный — на неразрешимость, что станется с полюсами мужское/женское? Возможно, женщины и хотели, чтобы с ними обращались как с равными (неразрешимость), но в то же время они настаивали на своей собственной идентичности (полярность). В качестве решения можно было бы заменить идентичность на различие. Патриархальную систему, как и навязанную ею логическую полярность, следовало деконструировать. Но к феминизму это не относится. Феминистки, стремящиеся достигнуть равенства с мужчинами, просто-напросто повторяют старые ошибки. Такой феминизм является «догматической операцией, посредством которой женщина осуществляет свое желание быть как мужчина, какдогматичес-кий философ, настаивающий на существовании истины, науки, объективности. То есть со всеми маскулинными иллюзиями». Деррида также кри-
83
тикует феминизм, названный им «реакционным»: такой феминизм является просто «приспособлением» и «самоограничением». «Активный» же феминизм, напротив, признает различие какпо-ложителыгую ценность. Многие феминистки восприняли все это как пустую риторику, однако по крайней мере одна надежная сторонница в Америке у Дерриды и деконструктивизма имеется. Это Барбара Джонсон, она ко всему прочему еще и совершила настоящий подвиг, честно переведя «Диссеминацию» на нечитаемый английский.
В 1992 году Деррида оказался замешанным в скандале в Англии. Когда Кембриджский университет предложил ему звание почетного доктора, некоторые члены факультета выступили с протестом. Такое случилось впервые за всю историю существования университета. Оппоненты Дерриды не стеснялись в выражениях. По их словам, французская философия «представляла собой систему, управляемую кучкой гуру и мандаринов, а также модными поветриями (и) не отвечала стандартам ясности и научности», в отличие от британской. Действительно, ведь «французы являются непревзойденными мастерами по изобре-
84
тению терминов с неточными значениями, отчего философское рассуждение незаметным образом превращается в бессмыслицу». Несмотря на этот взрыв франкофобии, Деррида в конце концов все же получил звание почетного доктора.
Деррида продолжал свою деконструктивис-тскую программу. Плодовитый как всегда, он решил привлечь к деконструктивистскому диалогу великих мыслителей и писателей прошлого. Назовем только несколько имен. Сократ, Платон, Декарт, Кант, Руссо, Гегель, Ницше, Маркс, Малларме — все они приняли участие, а точнее, были разобраны на части в этом одностороннем процессе. Труды их были деконструированы, их открытия переведены на код деконструктивизма. Нам кажется, что хватит нескольких примеров, чтобы читатель мог получить представление об этом упражнении.
Фрейдистская психология: Деррида настаивает, что сознание никогда не может быть свободным от «следов» бессознательного опыта. «Я», воспринимающее и представляющее себя в настоящем, на самом деле «пишется» бессознательными «следами» прошлого, которое, в свою очередь,
85
тоже «написано» следами своего собственного прошлого и т. д. Это значит, что чистого восприятия не существует.
Деррида никогда не боялся трудностей, поэтому в 1991 году, когда всем казалось, что марксизм повержен навсегда, решил взяться за Маркса. В работе «Призраки Маркса» он занялся придуманной им наукой «хантологией». Предмет этой науки — призраки, привидения и духи, населяющие пространство между бинарными оппозициями бытия и небытия, живого и мертвого. Не обошлось и без любимой игры слов. Слово «хан-тология» (hantologie) во французском совпадает по звучанию со словом «онтология» (ontologie) из-за непроизносимого «h» в начале. Онтология — это раздел философии, занимающийся проблемами бытия, или абсолютного существования. «Коммунистический манифест» Маркса начинается словами: «Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма». По мнению Деррида, коммунизм не является ни живым (как когда-то верили), ни мертвым (как считают сейчас). Вместо этого противопоставления есть неразрешимость, то есть призрак. В конце концов Деррида прихо-
86
дит к мысли, что деконструктивизм — это на самом деле более радикальная форма марксизма. Благодаря этому выводу ему удается совершить невозможное, а именно объединить почти всех современных философов и политологов всех мастей. К несчастью, объединились они против Деррида. Я сказал «почти всех», имея в виду всех, кроме парижских интеллектуалов. В этой среде вывод Дерриды, естественно, горячо обсуждался, звучали мнения «за» и «против» и вообще создалась атмосфера пресловутой полярности, так негативно оценивавшейся самим маэстро.
Наверное, судьба Дерриды просто не могла провести его мимо Джеймса Джойса. Джойс, конечно, мастер языкового фокуса, но совсем в обратном Дерриде смысле. Играя с языком, Джойс остается читаемым и понятным, открывает новые стороны значения у описываемой реальности (при этом и исходные значения, и сами объекты описания сохраняются) и никакой (анти-)фило-софской идеологии не пропагандирует. «Есть ли предел для интерпретаций Джойса?» — задается вопросом Деррида. И самже решает, что нет. Потом он впадает в явное противоречие, объясняя,
87
что Джойс реализовал полную возможность возможных интерпретаций уже до нас. Любопытно, что Деррида выбрал для своих изысканий «Улисса», а не «Поминки по Финнегану», а ведь именно последнее произведение более или менее соответствует требованию бесконечной интерпретации без наличия абсолютного смысла. Как бы то ни было, даже в этом курьезе гения можно найти целую россыпь импрессионистских смыслов, если покопаться в завалах неологизмов, парадоксов и солипсистских солецизмов.
«Три кварка для Мастера Марка! Конечно, мала его чарка И пьянство — не его марка».
Задолго до того, как Деррида начал дсконструировать Джойса, один американский физик-атомщик по имени Мюррей Гелл-Манн почитывал на досуге «Поминки по Финнегану». Когда Гелл-Манн открыл новую разновидность субатомных частиц, то шутки ради назвал их «кварками», позаимствовав слово из вышеприведенной цитаты. Для Джойса, создателя литературных неологизмов, слово «кварк» является источником
88
всевозможных интерпретаций. Для Дерриды — нечто, что он, вне всякого сомнения, мог бы де-конструировать до полной потери смысла. Для Гелл-Манна, а за ним и всего научного мира, слово «кварк» превратилось в точное обозначение разновидности субатомных частиц, со спином в S единицы и электрическим зарядом в + 2 /3или — 1/Зединиц, которые образуют адроны, но в свободном виде не обнаружены.
Среди представленных выше интерпретаций одна относится к литературной функции языка, другая — к научной. Если вы найдете что-нибудь еще, то вам и карты в руки (с чем, несомненно, согласился бы и сам Деррида).
Из произведений Дерриды
Когда я говорю, я осознаю, что это происходит ради пресуществления моей мысли, но в то же время я стараюсь держаться в своей мысли по возможности ближе к означающей субстанции, к звуку своего голоса.
— Жак Деррида
Все попытки дать определение деконструкции обречены на провал… Одним из принципов деконструкции является выведение за границы онтологии, прежде всего по отношению к концепциям третьего лица единственного числа изъявительного наклонения, предложений типа Субъект — это Предикат.
— Жак Деррида
91
Как только «присутствующая речь», которая находится за пределами истинного или ложного в данном утверждении или симптоме по отношению к данному содержанию, «начинает свидетельствовать» «об истинности этого откровения», аспекты соответствия или объяснения далее не нуждаются в верификации или достижении со стороны некоего внешнего объекта.
— ЖакДеррида
При помощи своей деконструкции Деррида стремится доказать, что «…наш повседневный язык не бывает нейтральным; он содержит в себе предпосылки и культурные аксиомы целой традиции… Возможно, этот антипопулистский и вто же время антиплатонический элемент… и является важнейшим вкладом Дерриды».
—Джон Лехт е
Деррида ссылается… на долгую философскую традицию, ведущую от Платона к Хайдегге-ру, традицию поиска основных принципов или основ смысла как такового… Задача, могущая оказаться человечеству не по плечу.
— Кристофер Норрис
92
Возможно, что исследование смысла как такового, исследование, несмотря ни на что, терпеливое и педантичное, и является важнейшей задачей философии в наши дни.
— Кристофер Норрис
Некоторые считают Дерриду «крупнейшим философом конца XX века. К сожалению, никто не может сказать с уверенностью, чем же является деконструктивизм, созданное им интеллектуальное течение, — дальнейшим шагом в развитии философии или же ее смертью».
— ДжимПауэлл
Америка — это нация эмигрантов, и поэтому «обладает множеством точек зрений, языков, типов поведения, которых не хватает в снобистской гомогенной Франции, притесняющей своих алжирских сограждан. Деррида, будучи алжирским евреем, проводил в жизнь свою личную идеологию, не имеющую отношения к Америке».
— Камилла Палъя
93
Барт соглашается с Дерридой в его критике «теологической симультанности книги», метафизического предположения, что текст состоит из симультанной системы обоюдных взаимосвязей, а следовательно, и измерения времени и величины являются чисто контингенциональными.
— Майкл Мориарти
Деконструкция — это теория, которая служит лучшим прикрытием для многословной бессмыслицы.
— Питер Леннон
Хронология жизни Дерриды
1930 г. Деррида родился в пригороде Алжира.
1940 г. Алжир становится частью нацистской империи.
1942 г. Камю публикует «Постороннего» и «Миф о Сизифе». После вступления в силу законов о расовой чистоте и введения расовых квот в учебных заведениях Дерриду исключают из школы. Большую часть времени он прогуливает уроки в неофициальном еврейском лицее.
1943 г. Сартр публикует «Бытие и ничто», знакомит Францию с философией Хайдеггера и начинает эру экзистенциализма.
99
1950 г. Деррида уезжает в Париж для подготовки к поступлению в Ecole Normale Superieure.
1951г. Разрыв между Сартром и Камю на почве отношения к коммунизму.
1952 г. Деррида в конце концов поступает в Ecole Normale Superieure.
1956 г. Деррида получает годичную стипендию для учебы в Гарварде.
1957 г. Женится на Маргерит Окутурье.
1957 г. Военная служба в Алжире — работает учителем в школе для детей военных.
1960 г. Переживает жестокий приступ депрессии.
1960 —1964 гг. Преподает в Сорбонне.
1962 г. Конец Алжирской войны, объявление Алжиром независимости. Начало «ностальжи-рии» Дерриды. Он пишет первую серьезную работу —длинное введение к своему переводу «Происхождения геометрии» Гуссерля.
100
1963 г. Рождение первенца Пьера.
1965 г. Занимает должность преподавателя истории философии в Ecole Normale Superieure.
1967 г. Публикация классических работ, где излагаются все его основные идеи: «Голос и феномен», «Письмо и различие» и «О грамматологии».
1968 г. «Майские события» в Париже: в мае 1968 г. начинается студенческий бунт, бунтовщики захватывают Левый берег Сены; президент де Голль тайно бежит в Германию.
1972 г. Дерридаработает временным лектором в университете Джонса Хопкинса. С этого времени его преподавательская деятельность распределяется между Парижем и Соединенными Штатами.
1974 г. Публикация работы «Глас».
1980 г. Публикация работы «Почтовая открытка: от Сократа к Фрейду и дальше».
1981 г. Подвергается в Праге аресту коммунистическими властями по сфабрикованному обвинению в хранении марихуаны.
101
1984 г. Смерть Фуко.
1987 г. Деррида назначен временным профессором в университете Калифорнии, Ирвин.
1992 г. Спор в Кембриджском университете, Англия, в связи с присуждением Дерриде звания почетного доктора.
КАНТ
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "ПОЛ СТРЕТЕРН «20 философов за 90 минут»"
Книги похожие на "ПОЛ СТРЕТЕРН «20 философов за 90 минут»" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о " dm - ПОЛ СТРЕТЕРН «20 философов за 90 минут»"
Отзывы читателей о книге "ПОЛ СТРЕТЕРН «20 философов за 90 минут»", комментарии и мнения людей о произведении.