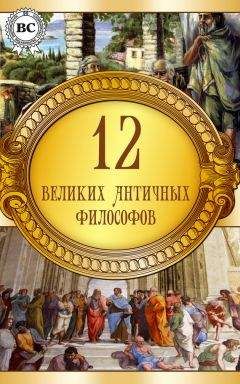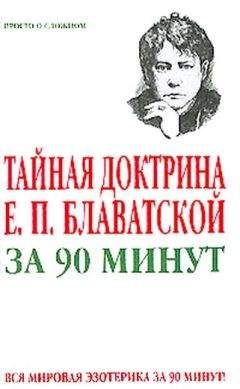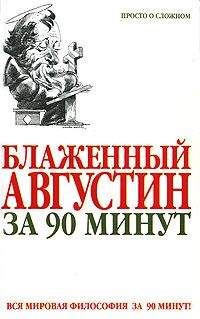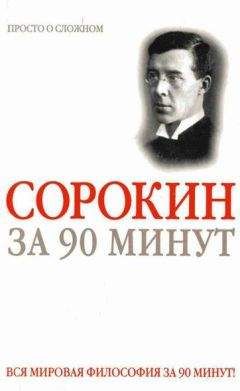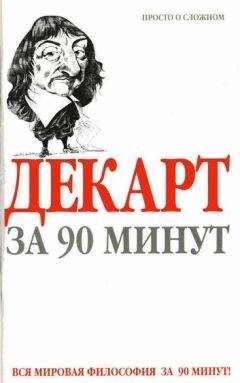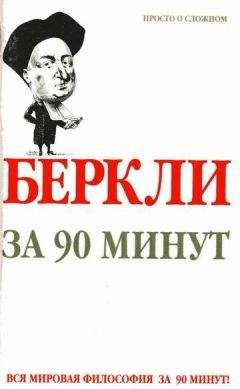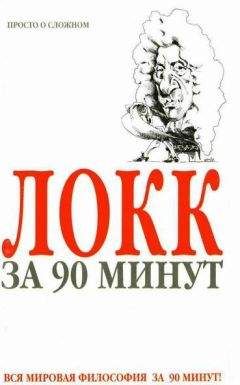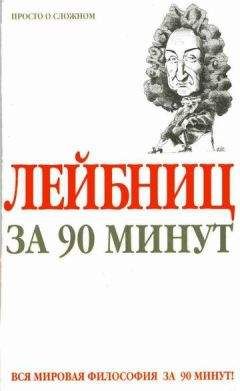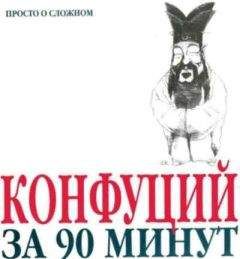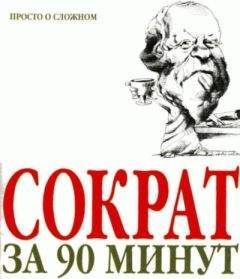dm - ПОЛ СТРЕТЕРН «20 философов за 90 минут»
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "ПОЛ СТРЕТЕРН «20 философов за 90 минут»"
Описание и краткое содержание "ПОЛ СТРЕТЕРН «20 философов за 90 минут»" читать бесплатно онлайн.
-
МАМАРДАШВИЛИ
МАМАРДАШВИЛИЗА 90 МИНУТ
ВВЕДЕНИЕ
Но ведь человек — вы знаете — вообще существо, идущее издалека…
М.Мамардашвили «Мысль под запретом»
Мераб Константинович Мамардашвили мемуаров не оставил. Он вообще не очень любил пускаться в автобиографические воспоминания. Просто не считал это интересным: внешняя жизнь, как правило, ничего общего с событиями внутренней жизни не имеет, она скорее затемняет понимание, чем что-то объясняет.
Он приводил в пример фразу Декарта, своего любимого философа: «Я, собирающийся взойти на сцену в театре мира сего, в коем был до сих лор лишь зрителем, предстаю в маске». Почему «в маске»?-
Ну, во-первых, всякий философ — шпион. Только неизвестно чей. Шпион неизвестной родины, какой-то другой реальности. На все, что его окружает, он смотрит как бы издалека, через призму этой другой реальности, пытаясь прочесть ее знаки в обыденной жизни.
Но, как хорошему шпиону, ему нужно выглядеть таким же, как все остальные: «Нужно носить шапку той родины, где живешь как нормальный гражданин. Потому что попытка надеть колпак неизвестной родины приводит к вырождению твоего артистического или философского таланта. Вместо того чтобы видеть реальность, ты видишь всегда самого себя…» («Психологическая "топология пути»). Когда становишься рабом собственного образа — внешнего, на внутреннюю работу времени просто не остается. Значит, маска — камуфляж, ограждающий внутреннее пространство от навязчивого любопытства.
Вторая причина, как ни странно, — забота об окружающих. Для социальных существ является немаловажной спо-
собность контролировать свои слова и поступки: «Шуметь — дело фата. Жалоба — дело дураково». А ограждение ближних от конвульсивных эмоций и любезных сердцу жизненных историй — признак воспитанного человека: «…Вежливость — это то в нас, без чего вынужденное общение превратилось бы в ад» («Кантианские вариации»).
Да и ближние цепляют на нас ярлыки и маски, невзирая на наши протесты. «Не понимай меня сразу», — просил собеседника Моруа, опасаясь не столько непонимания, сколько понимания «наоборот» — эдакой странной рожи, которую собеседник поспешит увидеть вместо лица.
Маска — вообще довольно обычная составляющая социальной действительности. Чем же отличается философ в маске от других представителей человеческого рода? Тем, что с истинным лицом маску не отождествляет…
К середине XX века философия стала вырождаться в схоластику, заговорили даже о ее «смерти». В ней накопилось столько ответов, что они перестали на что-либо отвечать. Концепции множились, но становились все более легковесными, превращаясь в род интеллектуальной игры. Мысли превратились в слова, в вещи. Их можно было складывать в корзинку памяти как продукты в супермаркете, цитировать по случаю, различным образом комбинировать, составляя замечательнейшие словесные конструкции. Только почему-то нарастали апатия и пессимизм, а постмодерн вещал об «эре тотальной симуляции». «И с каждой минутой я помню все больше, а чувствую все меньше», — признавался Хулио Кортасар, а с ним и весь интеллектуальный бомонд.
(1) По большому счету, различие между советской и западной философией было только в количестве используемых философских брендов. Мы применяли единственный объяснительный шаблон, но тем же манером: пытаясь втиснуть себя в готовую схему. А схема не сработала, схемы вообще работают исключительно у своих создателей. Смешно по этой причине бездумно повторять: «Философия умерла».
4
Вместо того чтобы спросить себя: «Что же такое — философия?»
Мераб Мамардашвили напомнил нам, казалось бы, очевидную вещь: философия—не только собрание диковинных идей,но еще и техника, позволяющая человеку понять самого себя.
Самое большое наше желание, говорил Мамардашвили, чувствовать себя живыми. А жизнь — это усилие во времени, прежде всего — усилие понимания. Не понятые нами события, чувства, мысли превращаются в «симулякры», чужеродным, мертвым грузом откладываются в сознании, начинают вести там какое-то призрачное существование, обусловливая восприятие мира. Не извлекая смысл из пережитого, мы обрекаем себя на состояние «зомби», человекоподобных существ, зависимых от иррациональных, непостижимых для них сил, в лучшем случае — на «…состояние дебильных переростков, которые так и остались в детском возрасте…» («Сознание и цивилизация»).
Значит, нужна интенсивная работа по избавлению от ментальных «уродцев» — недоразвитых мыслей, искажающих восприятие реальности. А для этого требуется техническое умение грамотно мыслить, чего трудно достичь путем заучивания чужих концепций и систем.
Философский акт может происходить лишь в точке «метафизического нулевого состояния», где все равноправно и равнослучайно и еще требует расшифровки. «Один на один с миром»… Тогда собственная жизнь или чужая книга есть лишь материал для вычленения символов, задающих структуру жизни вообще.
Философия — всегда философияжестокости,и меньшее из ее требований: холодно и отрешенно наблюдать свою жизнь, воспринимая ее как метафизический эксперимент, текст в ряду прочих.
Надо.сказать, такой взгляд на мир не способствует легкой жизни. Впрочем, Мераб Константинович и называл мыш-
ление адски трудным делом. А философию — исключительно мужским занятием. В смысле — требующим предельного мужества.
Событийная канва жизни человека, который, по выражению одного из его студентов, жил вне времени и пространства, могла быть иной. По крайней мере, сам он внешние жизненные обстоятельства воспринимал как маску судьбы, случайность, значение переменной, тогда как его интересовала сама формула. («Тот, кто обращает внимание на факты, рискует не увидеть законы».) И, размышляя о жизни философа Мераба Константиновича Мамардашвили, необходимо иметь это в виду.
СИНЕЕ НЕБО НАД ГОРИ
Мне кажется очень существенной и неустранимой материально сенсуальная сторона жизни, особенно ярко видная в пространстве. Она есть какая-то совокупность первичных ощущений бытия, которые случаются с нами только в юности. А юность — всегда в родных местах. Настолько, что даже имеет смысл утверждение Пруста, что если мы что-нибудь узнаём,' то узнаём только в юности, а потом это узнанное понимаем, познаем. Если случается, то только в юности, а если не случилось, то никогда не случится, человек лишен этого. Этого не будет. Вообще.
М.Мамардашвили «Одиночество—моя профессия»
Мераб Мамардашвили родился 15 сентября 1930 года в небольшом городке Гори, расположенном в 80 километрах от Тбилиси. Сам он обычно упоминал об этом вскользь, как о неком курьезном факте или подтверждении тезиса о случайности всякого начала: «Я родился… в том же городе, что и Сталин, — в Гори: в этом, может быть, следует видеть
6
некую божественную симметрию… В том смысле, что вот могут же родиться в Гори и совсем другие люди, делающие совсем иное дело…»
Описание Гори, сделанное в середине XIX века неким Петром Иоселиани для российского Министерства внутренних дел, пленяет смесью буколической безмятежности и безотчетного ощущения опасности.
«…Город важный как по своей древности, так и по местоположению, в центре живописной долины Карталинской. Время основания города в точности неизвестно, но глубокая древность его неоспорима. Название Гори произошло от слова «гори», означающего по-грузински «холм». В самом деле, крепость города, неприступная до изобретения огнестрельного оружия, находится на вершине высокого и утесистого холма. Город расположен внизу, на берегу Куры, принимающей тут же слившиеся два значительных притока, Лиахви и Меджуду. Таким образом, стрех сторон окруженный реками, он открыт только с одной северной стороны, где расстилаются обширные долины, покрытые нивами и виноградниками…»
В этом городе, наполненном «особым, съедающим все материальные массы светом» («…для меня первичная форма неба — небо над долиной, идущей от Мцхета к Гори. Это то голубое, которое для меня голубое как таковое, тот сенсуально физический объем, который представляет собой вот эта чаша небесная, замыкающаяся с нижней чашей, как две1 чаши, лежащие одна на другой», — вспоминал Мамардашвили в «Сознании и философском призвании»), Мераб прожил первые четыре года — тот загадочный отрезок нашей жизни, о котором мы почти ничего не помним, но впечатления которого становятся для нас первичной формой восприятия мира.
Его отец, Константин Николаевич, был кадровым воен-, ным, человеком веселым и легким на подъем, как нельзя
7
лучше приспособленным для кочевой жизни. Войну он прошел комиссаром стрелковой дивизии и вышел в отставку в звании полковника.
Мать Мераба, Ксения Платоновна, принадлежала к старинному дворянскому роду Гарсеванишвили, представители которого в прошлом были приближены к царскому престолу и воспитывали грузинских царей. Она обладала целеустремленным и волевым характером, и, вероятно, именно о ней говорил Мамардашвили в «Лекциях о Прусте»: «Это существующий в Грузии тип женщин, чаще всего дворянского происхождения; то есть они принадлежали к сельскому дворянству, фактически разорившемуся, но в действительности, конечно, составляли костяк нации, который больше всего пострадал в годы революции; они были носителями традиций, просвещения, норм морали…»
В 1934 году семье Мамардашвили пришлось уехать из Грузии: Константина Николаевича направили учиться в Ленинградскую военно-политическую академию.
Потом были еще переезды: Киев, Винница… Не успевали распаковывать чемоданы. А в 41-м началась война. Константин Мамардашвили ушел на фронт, его семья была эвакуирована в Тбилиси. Так, в 1941 году, в возрасте 11 лет, Мераб в первый раз вернулся на родину.
8
Как стать философом? (Отступление первое)
Люди делятся на четыре типа: засланных, сосланных, награжденных и аборигенов. Аборигены — это те, кто родился на Земле. Они здесь наиболее адаптированы. Сосланных выслали сюда в наказание из лучших миров: они все время мучаются и плачут. Награжденных перевели за хорошее поведение из худших миров: им все кажется восхитительным и прекрасным. А засланные — это наблюдатели, шпионы.
Студенческий фольклор
Вот тут самое время задать сакраментальный вопрос, которым журналисты изводили Мамардашвили в последние годы: «Как становятся философами?»
Несмотря на внешнюю наивность, вопрос очень важный, потому что в его глубине скрывается еще один: по каким законам протекает наша жизнь? А это как раз и есть основной вопрос топологии пути — логики человеческой судьбы.
Человек может существовать как в режиме сознания, пути, так и вполне бессознательно. И тогда реальность имеет структуру сновидения: «Мы можем мыслить, то есть совершать логические операции, так и оставаясь в этой ирреальности, не приходя к реальности. Сама по себе логика не выталкивает нас на путь истины. Есть такой закон сновидения: по содержанию своих видений сон строится таким образом, чтобы эти видения позволяли нам не проснуться; сон как бы имеет структуру отобъяснения. Скажем, звонит будильник, я не хочу просыпаться, и в короткие мгновения, когда еще звучит звонок, сон разыгрывает целую сцену, которая придает такой смысл этому звуку, что этот смысл позволяет мне не проснуться. И вот то, что мы называем реальностью, чаще всего состоит из таких представлений, из таких образов и состояний, которые позволяют нам спать дальше. В данном случае слово „спать" означает не знать и
9
не видеть реальности. Жизнь есть сон — в этом смысле слова» («Психологическая топология пути»).
Один из законов топологии пути можно сформулировать следующим образом: все действительно значимые события происходят с нами не «потому что», а «вопреки». Между моментом А и моментом В всегда есть зазор. Этот зазор — основание человеческой свободы, другими словами — возможности проснуться. Проснуться к себе.
Как становятся философами? Например, так: «Еще ребенком я ощущал себя человеком, как бы прибывшим с другой планеты и обнаружившим, что все вокруг странно и покрыто мраком…» (Б. Мерчленд. «В кругу идей Мамардашвили»). Вот и Аристотель считал, что философия начинается с удивления.
Заноза невыносимости может быть вынута, очевидно, только актом мышления.
М. Мамардашвили «Как я понимаю философию»
Пробуждение сознания — процесс болезненный. Да и к тому же нет никаких гарантий, что не заснешь снова. «Ни за что на свете не согласился бы я еще раз проделать этот путь, не согласился бы снова стать 16-летним. Говорят: прекрасный возраст! Ничего подобного! Ни за что не захотел бы я снова оказаться под угрозой небытия, перед лицом которой стоит всякий юноша… в дремучем лесу ходячих трупов» («Мысль под запретом»).
Мераб вернулся на родину и… потерял ее. Воображаемый образ и реальная Грузия не совмещались друг с другом. «Я просыпался в одном из самых провинциальных мест черного тоннеля, в котором мы находились, где не было никакого просвета. Я имею в виду мою жизнь в Тбилиси» («Вена на заре XX века»). Это был шок, или звонок будиль-
10
ника — пробуждение от бессознательного сна младенчества. Начало пути, сопровождаемое острым чувством одиночества и тоской по неизвестной родине.
А жизнь шла своим чередом: редкие отцовские письма с фронта, гимназия, голодная улица с ее законами… И книги — единственная отдушина. «Бывает, что инерция случая, невидимо действующая позади тебя, загоняет тебя на.,, необитаемый остров, и ты получаешь что-то вроде статуса экстерриториальности. Так было со мной. Меня относило на остров потоком моего чтения…» («Мысль под запретом»). Монтень, Ле Боэси, Монтескье, Руссо… В городской библиотеке оказалась неплохая подборка французов. Может быть, тогда он и осознал первый закон топологии пути — «закон фундаментального одиночества»: «наш настоящий разговор всегда не с ближним, а с дальним…»
Отношения со сверстниками не то чтобы не складывались… Трогать его, конечно, боялись (он был довольно сильным, хотя первым в драку не лез), но и своим признать не получалось: «Какой-то странный — другой». В старших классах «странность» стала менее вызывающей: выяснилось, что он бесспорный интеллектуальный лидер. Какое соперничество шло в этом «совершенно обычном классе» обычной тбилисской гимназии! Выясняли, кто самый сильный, самый умный, самый хороший математик, самый сильный физик… (Пошло на пользу, как оказалось: из 36 человек в итоге — 8 медалистов. А потом и 15 кандидатов наук, 6 докторов, 2 академика.) Со всеобщего согласия Мераба признали номером один. Победить в споре его не мог никто. Он знал невообразимое количество фактов из самых невероятных областей. И с 9-го класса был уверен, что станет философом. Даже кличка у него была математически-философская: Функ. Якобы жил когда-то такой австрийский математик-философ. Никто такого не знал, но Мерабу прозвище подходило. Как еще можно было называть человека, который собирался стать философом?
11
УНИВЕРСИТЕТ
…Проблема человеческой судьбы, человеческого предназначения начинает выступать для человека как задача нового рождения в реальном мире, хотя он является своеобразным гостем мира нереального, иного. Возможно ли такое рождение? Можно ли, не забыв своего гражданства неизвестной родины, родиться вторично гражданином уже этого мира? Можно ли существовать, будучи носителем той смутно ощущаемой гармонии, которая сверкнула случайно в зеркальном осколке сознания и превратила столь привычный до этого мир в нечто условное и не само собой разумеющееся?
М. Мамардашвили «Одиночество — моя профессия»
В 1949 году Мераб поступил на философский факультет МГУ. «Я приехал в Москву поступать в Университет в 49-м году, после войны; в это нищее, голодное время Москва была городом напряженным, динамичным, нищим и исключительно интересным. Опасным городом» («Мысль под запретом»).
Страна еще ликовала, переживая Победу, а Сталин уже задумывал новые кампании. Прямиком в лагеря отправлялись вернувшиеся из плена, целые народности поголовно репрессировались и высылались подальше от родных мест. Не осталась без внимания интеллигенция: борьба с низкопоклонством перед Западом и космополитизмом, разгром генетики и эволюционной физиологии, «дело Еврейского антифашистского комитета», «дело врачей», постановления ЦК ВКП(б) «О журналах „Звезда" и „Ленинград"», «О репертуаре драматических театров и мерах по его улучшению», «Об опере Мурадели „Великая дружба"» и т. д. и т. п. Главным произведением эпохи, наряду с «Кратким курсом истории ВКП(б)», была объявлена «Краткая биография И. В. Сталина». «Широкие слои трудящихся, простые люди не могут начать изучение
12
марксизма-ленинизма с сочинений Ленина и Сталина, — заявлял вождь. — Начнут с биографии. Биография очень серьезное дело, она имеет громадное значение для марксистского просвещения простых людей». Был прав, впрочем.
На философском факультете МГУ тоже было «интересно» — кампания против «безродных космополитов» началась с критики в 47-м учебника академика Александрова «История западно-европейской философии». Факультет оказался в эпицентре идеологических разборок. «Мы действительно были в ситуации, кода „ходили по краю", все время находились на грани фола, на нашем курсе было 4 ареста за первые 3 года», — вспоминал Борис Грушин*, учившийся на 2 курса раньше Мераба. Георгий Щедровицкий** перевелся сюда с физфака в 1949 году и попал из огня да в полымя: «Всем известно знаменитое выражение Гегеля: „Все действительное разумно, все разумное действительно". Так вот, во время учебы на втором, третьем, четвертом курсах я понял, что этот принцип ошибочный, или во всяком случае не распространяется на философский факультет и нашу страну… Вообще, преподаватели факультета старались не вести семинаров, потому что не знали, чем закончится семинар. Каждый доклад, каждое выступление было, фактически, жонглированием на проволоке…» Ведь иномыслящие подлежали физическому уничтожению, а «стукачей» хватало. Недаром в те годы даже сложилась поговорка: «У каждого кустика своя акустика».
* Грушин Борис Андреевич в начале 50-х годов входил в группу «диастанкуров», к которой принадлежал и М. К. Мамардашвили. Впоследствии стал одним из основателей советской социологии.
** Щедровицкий Георгий Петрович — также один из четверки «диастанкуров». Родоначальник методологического течения советской философии. О жизни философского факультета МГУ в конце 40-х—начале 50-х подробно рассказывается в его автобиографической книге «Я всегда был идеалистом…»
13
Относительно свободной от идеологии оставалась только логика. На кафедре логики и начали собираться все, кто хотел заниматься философией серьезно. «Логическое и историческое в „Капитале" Маркса», «Диалектика „Капитала"», «Абстрактное и конкретное в „Капитале"» — это были темы, которые на идеологически допустимом материале позволяли иметь дело с реальными проблемами мышления и познания. С 49-го года работали над логикой «Капитала» Зиновьев и Грушин, в 52-м к ним присоединился Щедровиц-кий, в 53-м блистательно защитил свою диссертацию «Диалектика абстрактного и конкретного в „Капитале"» Эвальд Ильенков. В одиночестве, зная только о работе Ильенкова и категорически с ним не соглашаясь, писал дипломную работу «О проблеме исторического и логического в „Капитале"» Мераб Мамардашвили.
А в марте 53-го умер Сталин. Наступил какой-то смутный период: быстро арестовали и расстреляли Берию, в верхах началась дележка власти, и идеологический контроль потерял свои четкие формы — ждали перемен.
…То, чем мы занимались и как занимались, было способом выражения и отстаивания самоценности жизни вопреки всяким внешним смыслам. Это было восстанием, во всяком случае я его так осознавал, и так мне кажется по сей день — восстанием против всех внешних смыслов и оправданий жизни. Философией жизни как внутренне неотчуждаемь1м достоинством личности, самого факта, что ты живой, поскольку жизнь есть не нечто само собой продолжающееся, а есть усилие воли.
М. Мамардашвили «Начало Всегда исторично, то есть случайно»
Факультет оживал. Выяснилось, что и в тяжелые послевоенные годы, тайно или явно, философская работа не пре-
14
кращалась, и «Капитал» Маркса был ее питательным бульоном. К 54-му году на факультете окончательно оформились две самостоятельные исследовательские группы: «гносеоло-гов», во главе с Эвальдом Ильенковым, и «диалектических станковистов» («диастанкуров»), лидером которых был Александр Зиновьев.
Гегельянцы-«гносеологи» провозглашали принцип тождества бытия и мышления, «диалектические станковисты» этот принцип отрицали.
Отношения между группами вне теоретических дискуссий были самыми дружескими: устраивали вечеринки на квартире у Ильенкова, толпой бродили по улицам, спорили о Гегеле, обсуждали «Тезисы гносеологизма», которым было суждено стать легендарными и которые немало крови попортили потом своим создателям, Ильенкову и Коро-викову.
«…В своей чистоте и абстрактности законы диалектики могут быть исследованы и вычленены лишь философией, как логические категории, как законы диалектического мышления. Лишь делая своим предметом теоретическое мышление, процесс познания, философия включает в свое рассмотрение и наиболее общие характеристики бытия, а не наоборот, как это часто изображают. Философия и есть наука о научном мышлении, о его законах и формах. Предмет философии — познание, а не мир».
«Тезисы» обсуждали все, от первокурсников до аспирантов: это был манифест новой, живой философии, философии молодых. Факультет бурлил — такого здесь не бывало давно. Профессура просто испугалась: трудно так просто вычеркнуть из памяти ужас прошедших десятилетий и привычное «все — за!», а тут крики, споры, бесконечные сходки. Обсуждение «Тезисов» попытались свернуть, от греха подальше. Не тут-то было — молодежь объединилась, забыв теоретические разногласия. Смыслом происходящего стало столкновение старого способа жиз-
15
ни с новым. «Если бы Маркс был жив, он бы к своим 11 тезисам добавил 12-й: раньше буржуазные философы объясняли мир, а советские философы не делают даже этого», — под хохот зала завершил одно из заседаний Зиновьев (11-й из тезисов Маркса о Фейербахе гласит: «До сих пор философы лишь различным образом объясняли мир, наша задача — изменить его»).
После «дискуссии гносеологов» окончательно определился состав «диастанкуров»: к Зиновьеву, Грушину и Щед-ровицкому присоединился Мераб Мамардашвили — для него эта дружба стала «первым выходом из внутренней эмиграции».
«Диалектическим станковизмом» прозвал новое объединение Зиновьев. (Есть у Ильфа и Петрова в «Золотом теленке» эпизод, пародирующий становление «нового искусства»: четыре художника основали группу «Диалектический станковист» и писали портреты ответственных работников, сбывая их в местный музей. Кризис жанра наступил, когда число незарисованных ответработников приблизилось к нулю. «Бросьте свои масляные краски, — посоветовал незадачливым станковистам Остап. — Переходите на мозаику из гаек, костылей и винтиков. Портрет из гаек! Замечательная идея!»)
Название приняли с восторгом — был в нем элемент эпатажа, да и просто уморительная игра слов: занимались-то, ни более ни менее, как созданием новой диалектической (содержательно-генетической) логики. Потому что ни формальная логика, интересующаяся только формами, а не содержанием высказываний, ни, тем более, та диалектическая логика, которая преподавалась на факультете и была, на взгляд диастанкуров, просто болтовней, никакого отношения к реальному процессу мышления не имеют. А интересно было именно то, как возникает новое знание, с помощью каких приемов мышления мы способны достигнуть истины. Объемистый «Капитал» прекрасно подходил для анализа:, выделяли ключевые понятия, процедуры экстрапо-
16
ляции, восхождения от абстрактного к конкретному, понятийную структуру и динамику.
Спорили, конечно, с Ильенковым: да, действительно, философия должна заниматься теорией познания, но и от онтологии никуда не денешься. Потому что сознание и мир существуют по разным законам, и все парадоксы и противоречия, присущие нашей мысли, к миру отношения не имеют — что бы ни говорил об этом великий Гегель. .
Каковы же законы, по которым мы познае'м мир? Если мышление — это не механическое соединение уже известных формул, а живой процесс, то в чем выражается его суть? Возможно ли вывести алгоритм творческого акта? Несколько лет спустя, в первой опубликованной статье «Процессы анализа и синтеза» (1958 год), Мераб вернется к этим вопросам: мышление как органическое целое не сводится к сумме своих частей, и свойства его элементов заранее неопределимы, потому что при взаимодействии они изменяют друг друга непредсказуемым образом. Для того чтобы понять, как мы мыслим, недостаточно механического анализа и синтеза, необходимо что-то еще.
…А на деле лишь развернулись пружины заложенных механизмов и последовательно коснулись всех этих точек.
М. Мамардашвили «Мой опыт нетипичен»
Жизнь кипела, «…в воздухе носилось что-то игристое, брызжущее, искрометное…» («Мысль под запретом»). Дискуссии и семинары, «еретические» выступления на защитах, открытый протест против того, что воспринималось глупым и пошлым, — все это становилось нормой. Кумир молодежи Ильенков вел полуофициальные семинары по диалектической логике, Зиновьев защитил диссертацию, за которую
17
три года назад, в лучшем случае, положил бы на стол партийный билет. «Диалектический станковизм» вырастал в ММК— московский методологический кружок с серьезными заявками на новое слово в науке.
Это было удивительно и странно, и долго так продолжаться не могло. Весной 55-го «старшие товарищи» решили поставить факультет на место. И поставили. Особенно досталось «гносеологам». Их прорабатывали на собраниях, громили на ученых советах… Было противно? Да! Страшно? Конечно. Но что-то несерьезное, гротескное, пародийное пронизывает воспоминания об этих «процессах». На одном из последних собраний, например, проходившем при полном зале, тогдашний декан Молодцов патетически воскликнул: «Куда они нас тащат! Нас тащат в область мышления!» На что кто-то из публики немедленно отреагировал: «Не бойтесь, вас туда не затащишь!»
А докладная записка от 29 апреля 1955 года по поводу распространения «антимарксистских настроений» на философском факультете достойна пера Салтыкова-Щедрина.
Отделом науки и культуры совместно с МГК КПСС проведена проверка преподавания общественных наук и идейно-воспитательной работы на философском факультете Московского государственного университета.
Проверка показала, что работа на факультете находится в запущенном состоянии…
Среди неустойчивой, марксистски слабо подготовленной части студентов, аспирантов и "преподавателей стало модой критиканство и демагогия. На факультете появилось мнение, что наличие многочисленных разногласий и точек зрения является положительным фактом, свидетельствующим не о застое, а о жизни и творчестве в философской науке…
В течение последних 7—8 лет на философском факультете МГУ культивировались и распространялись антимарксистские положения по целому ряду философских вопросов. Так, проф. Белецкий утвер-
18
ждал, что объективной истиной является сама природа, а не научное знание о ней, экономический базис капиталистического общества считается одноклассо-вым и непротиворечивым. На кафедре диалектического и исторического материализма гуманитарных факультетов было объявлено, что философские категории: причинность, необходимость и другие — являются не объективно существующими реальностями, а только абстракциями, способами «усвоения чувственно данного»…
В такой обстановке в апреле 1954 года на факультете появились тезисы молодых преподавателей кафедры истории философии зарубежных стран Коро-викова и Ильенкова на тему: «К вопросу о взаимосвязи философии и знаний о природе и обществе в процессе их исторического развития», явившихся как бы итогом тех извращений, которые давно вызревали в стенах философского факультета…
Сведение предмета философии лишь к гносеологии авторов тезисов привело к отрицанию того, что диалектический материализм является мировоззрением, а исторический материализм — философской наукой…
На факультете образовалась целая группа студентов и аспирантов, которые сами себя именуют «течением гносеологов» и отстаивают порочные позиции Крровикова, Ильенкова, Кочеткова…
Распространение этих порочных взглядов нанесло серьезный вред делу теоретической подготовки и политического воспитания не только нашей студенческой молодежи, но и части студентов, обучающихся на философском факультете, из стран народной демократии…
У части студентов и аспирантов имеется стремление уйти от насущных практических задач в область «чистой науки», «чистого мышления», оторванного от практики, от политики нашей партии. Некоторые студенты признались, что давно не читают газет…
На ученом совете факультета и на кафедрах настоящего отпора этим взглядам не давалось. Дека-
19
нат и партийная организация также проявили беспечность и никак не отреагировали на теоретические извращения философии марксизма, тем самым дали возможность совершенно безнаказанно некоторым преподавателям… дискутировать по недискуссионным вопросам…
В целом в научной работе на факультете царят кустарщина и неорганизованность, отсутствие коллективности и творческих дискуссий по действительно нерешенным и спорным проблемам философской науки…
Зав. отделом науки и культуры ЦК КПСС
А. Румянцев
Притормозить активность философского факультета было делом несложным: неудобных преподавателей уволили, заменив менее разговорчивыми, нескольких аспирантов прокатили с защитой, чересчур активных пятикурсников распределили в тьму-таракань. Могло быть и хуже. Все-таки ощущалось уже дыхание «оттепели».
Соответствия и переклички (Отступление второе)
Слово «соответствие» я употребляю в том же смысле, в каком его употребляли символисты XIX века. В частности, Бодлер называл это correspondences— системой совпадений и соответствий. Соответствий нескольких явлений, совершенно не похожих друг на друга. Казалось бы, явления не связаны, но между ними есть символическое соответствие…
М. Мамардашвили «Лекции по античной философии»
Самое примечательное в этой истории то, что она не поддается моральной оценке. Не было битвы овнов и козлищ. Происходила банальная номенклатурная разборка, а ребята,
20
в общем-то, попали под горячую руку. То-то Валентин Коро-виков, навсегда оставивший после этого философию, недоумевал: «За одно и то же то награждают, то наказывают…»
Нет, конечно, факультет «оплошал»: заявлять на партийном собрании о недоверии Центральному Комитету, о каких-то ошибочных решениях по части сельского хозяйства — это слишком. ЦК, может быть, и «не икона», но и кузница партийных кадров — не древнегреческая агора. Свои же и воспользовались случаем, чтобы убрать с факультета лишних… или лишнего?
Была тогда такая фигура на факультете — профессор Белецкий. В «Очерках истории философского факультета МГУ» (2002) ему посвящен весьма интригующий и бессодержательный абзац: «Вообще первые послевоенные годы характерны повышенной активностью заведующего университетской кафедрой диалектического и исторического материализма Зиновия Яковлевича Белецкого, который считал себя самым верным толкователем „бессмертного учения марксизма-ленинизма". О его деятельности и его личности сложились самые противоречивые впечатления, но факт его влияния на факультетскую жизнь бесспорен».
А личность была весьма незаурядная. «Мракобес, обскурант, лысенковец», Лосева с факультета выжил, обвинив в идеализме, — «красный террорист», иначе не скажешь.
Воевал со всеми, невзирая на должности и звания, руководству «философского фронта» в кошмарах, верно, являлся. Что не по нем — Сталину писал. Академика Александрова, царедворца, просто затравил. Александровскую, «Историю западно-европейской философии» с его подачи трепать начали. Госпремию с 3-го тома,«Истории философии» тоже по его милости сняли — а для людей, чье сознание «всецело определяется пайками и должностными окладами», это святое!
Историю идеалистической философии вообще в грош не ставил — ну разве что как «мыслительный материал». Был
21
одержим идеей создания «настоящей» марксистской философии.
Над заслуженными профессорами кафедры истории философии просто издевался. «Согласны ли вы с высказыванием Ленина о том, что идеализм есть утонченная поповщина?» — ехидно спрашивал. «Согласен», — лепечет несчастный, куда ж деваться? «В таком случае, развитие идеализма нужно изучать в курсе не истории философии, а истории религии».
Любил шокировать расслабившихся слушателей цитатой из Маркса: «Философия относится к позитивным наукам — как онанизм к половой любви».
Собственные убеждения отстаивал бескомпромиссно. Расходятся с официальным курсом? Тем хуже для курса. «За что мы будем критиковать Фалеса? За что мы будем критиковать Дидро? За то, что не были диалектиками. Да ведь они и не могли быть диалектиками. Они были представителями своего времени, опирались на знания своего времени, отражали интересы своего времени» (Г. С. Батыгин, И. Ф. Девятко. «Дело профессора 3. Я. Белецкого»).
Считал, что ленинская работа «Три источника и три составных части марксизма» — чушь собачья, и марксизм из идеализма вытекать не может. Добился, чтобы «Три источника» вычеркнули из учебной программы.
Или затевал «схоластические диспуты» о том, что такое истина. Превратил вопрос об «объективной истине» чуть ли не в основной вопрос философии. Утверждал, что объективная истина существует не в познании, а независимо от познающего субъекта.
Не писал ничего принципиально: «Вы должны раз и навсегда усвоить, что каждая книжка осуждена уже фактом своего опубликования». Считал, что идеи не рождаются из идей. Вел феерические семинары. Ш. М. Герман, один из «молодых коллег», вспоминал уже в конце 90-х: «…Семинарские занятия – это был блеск мысли. И самое главное,, это
22
была мысль, которая никого не давила. Если ты с ним в чем-то не соглашался, ты мог смело выступить, хотя в подавляющем большинстве случаев он тебя раскладывал на обе лопатки. Но иногда и его раскладывали, и он это признавал –и соглашался. Я думаю, что главное, чему учил Белецкий своих учеников, это… Вот слово „свободомыслие", наверно, не подходит… просто самостоятельности мышления».
Начальство ненавидело его люто. Чредой сменяющиеся, подсиживающие друг друга деканы в данном случае были трогательно единодушны. В 49-м, при приеме в аспирантуру, основной вопрос ставился недвусмысленно: «Сколько раз и где ты выступал против Белецкого?» Тогда свалить его не удалось — Сталина побоялись. А в 55-м расклад был уже другим. Вот Молодцов, новый декан (тот, которого «в область мышления не затащишь») и подсуетился: подослал стенографистку на диспут Белецкого «Что такое философия?», да стенограмму в ЦК и отправил. А в ней чего только не было, при прямом попустительстве…
Так, ягодка к ягодке, компромат на родной факультет в верха и переправляли: неосторожные заявления на партсобрании, неуправляемый Белецкий, ну и «Гносеологические тезисы» 54-го кстати пришлись. После проверки, когда выгнали всех, кого надо, наступил мир и покой. Надолго.
Мераб Мамардашвили учеником Белецкого не был и быть не мог Революционный романтизм — чуждая ему стихия. Связь между ними гораздо тоньше и мистичнее, что ли. Странным образом их жизни полны каких-то архитипических совпадений, того, что в «Психологическойтопологиипути»Мамардашвили назовет «взрывчатыми минами соответствий и перекличек», знаками скрытых линий судьбы.
Эта тема невидимыхлиний,по которым разворачивается наша жизнь, была одной из самых значимых для него. Вся «Топология пути», по сути,,это поиск и вычленение ре-
23
зонансной структуры судьбы, структуры, которая и есть переплетение невидимых нитей, скрытая за туманом повседневности архетипическая картина жизни.
Ведь кажется, что от нас, погруженных в круговерть жизненных обстоятельств, беспомощно влекомых потоком времени, скрыто самое интересное — смысл происходящего, связность, цельность нашей жизни, ее неслучайность. Мы — как актеры, играющие роль с листа и не знающие, чем и когда она завершится. Более того, часто мы не понимаем, что же с нами происходило, даже когда жизнь подходит к концу. Мы не смогли ее прочитать — не расшифровали ее язык. Мы уверены, что темнота и беспомощность перед будущим — человеческий удел, закон жизни; тем самым мы возводим в абсолют собственную неспособность видеть.
Смотрим — и не видим. Почему? На это есть много причин. Одна из них, например — ленивое, спутанное сознание, существование как будто бы в полусне, в облаке грез, сквозь которое реальность пробивается к нам только как катастрофа. Другая — элементарное нежелание задуматься, продумать что-то до конца, потому что выводы могут быть горькими, болезненными. «Мы готовы вечно страдать, лишь бы не страдать» («Психологическая топология пути»). * А может, срабатывает и не зависящая от нас причина, относящаяся к законам функционирования сознания: мы что-то не видим, потому что для этого нет оснований. Мы просто еще не способны понять увиденное, не доросли, не нарастили «понимательные мышцы». Иными словами, для того, чтобы что-то понять, мы должны увидеть это как минимум два раза.
У Мамардашвили есть загадочная фраза: «…Если мы что-нибудь узнаём, то узнаём только в юности, а потом это узнанное понимаем, познаем. Если случается, то только в юности, а если не случилось, то никогда не случится; человек лишен этого». Он возвращался к этой мысли неодно-
24
кратно, и из нее много чего следует. Сейчас нас интересует только одна лемма: в детстве и юности человека в свернутом(символическом)виде можно обнаружить все, что, разворачиваясь, станет содержанием его жизни.
В «Топологии пути» он объясняет эту мысль на примере любви главного героя романа Пруста «В поисках утраченного времени» — Марселя.
Юный Марсель узнает не очень интересную ему историю взаимоотношений родителей своей подружки, не подозревая, что эта история — архетип всей его будущей любовной жизни. То есть он по схеме любви отца Альбертины будет переживать собственную любовь, делать те же ошибки, испытывать те же чувства, «пробегать те же станции любви». Но поймет он это только многие годы спустя, прокручивая свою жизнь в процессе написания романа.
Так вот, знакомясь с историей жизни и борьбы Зиновия Яковлевича Белецкого, кульминация которой пришлась как раз на время учебы Мераба и оставила его совершенно равнодушным, поражаешься, насколько их судьбы перекликаются и дополняют одна другую.
Вряд ли предполагал тогда Мераб, упорно готовящийся к академической карьере, что забавный лозунг «Надо чувствовать живую душу марксизма» станет лучше отражать его собственную философскую позицию, чем призыв к скрупулезному штудированию первоисточников. Что тезис: «Если марксизм вышел из рабочего движения, то для того, чтобы понять марксизм, надо изучать рабочее движение», — может быть, является упрощением, но не нелепостью, потому что идеи, действительно, не рождаются из идей.
Что, как и Белецкий, он практическч ничего не будет писать, не в силах передать «живую душу философии» печатным словом. Даже Сократом попытаются назвать его после смерти — так же, как называли между собой Сократом Белецкого его ученики. Злосчастный эпизод с Лосевым, и тот повторится: Мераб Мамардашвили, будучи заместите-
25
лем редактора «Вопросов философии», статью Лосева в журнал не пропустит. Почему? Бог весть. Вроде бы, тоже из идейных соображений: за несоответствие философской тематике.
И уж совершенно фантастическим ему, всегда с иронией небожителя относившемуся к любой политической борьбе, показалось бы предположение, что он окажется в самом центре политических страстей, вступив в заведомо безнадежный поединок с человеческой глупостью.
«Повторяю, что очень многие невинные вещи внутри себя содержат такие взрывчатые мины соответствий и перекличек» («Психологическая топология пути»).
В той же «Топологии пути», развивая тему странных совпадений, казалось бы, различных судеб, Мамардашвили цитирует Фурье, французского утописта: величайший предрассудок — считать, что каждому человеческому телу присуща отдельная душа. Для того чтобы была единица человеческой души, нужно минимум 1460 индивидов. Ида-лее: «Пруст говорит, что единицей чаще всего является ситуация… а не индивиды, то есть ситуация есть большая единица, чем отдельные видимые индивиды. Значит, чтобы иметь единицу, индивидуальную, нужно несколько человеческих существ, — не просто несколько жизней, а буквально композиция из нескольких, восполняющих друг друга человеческих существ…»
Ситуация по своей природе есть некое целое, и если уж она существует, она должна быть выполнена полностью. А человек — существо обрывочное, фрагментарное, и материала его жизни для полного разворачивания ситуации просто не хватает. Поэтому отдельная судьба и кажется часто бессмысленной — состоящей из каких-то напрасных страданий, нелепых, непонятных поступков. А она и не может быть совершенной, потому что она всего лишь кусочек, фрагмент чего-то большего, другие части которого
26
захватывают еще какие-то судьбы. Причем под большим подразумевается не всемирная история или социум, большее — это именно ситуация. Ситуация всепоглощающей ревности в случае Пруста. Или ситуация рождения мысли в словесном поединке — в случае Сократа. Значит, у нас есть шанс в чужой судьбе разглядеть выпавшие фрагменты своей, тем самым восполнив ее до некого целого. И испытать при этом чувство глубокого эстетического удовлетворения.
«МОЙ ОПЫТ НЕТИПИЧЕН»
Мое отношение к власти я бы сравнил с отношением к паспорту. Я живу в стране, где принято иметь паспорт; он существует объективно… Если угодно, я все время находился в некоторой внутренней эмиграции.
М. Мамардашвили «Мой опыт нетипичен»
Хрущевская «оттепель», да и последующие 10 лет были на удивление спокойными для Мамардашвили: ему удалось вписаться в социальную систему. Все, что происходило, происходило естественно и как бы само собой: аспирантура МГУ, «Вопросы философии», заведование в пражском журнале «Вопросы мира и социализма» отделом критики и библиографии, Париж и Рим, защита кандидатской, возвращение в журнал «Вопросы философии» уже в должности зама главного редактора, докторская, профессорство… Столько событий — и чувство отстраненности от них. Ни иллюзий, ни разочарований: «Просто у меня всегда было острое неприятие всего окружающего строя жизни и не было никакой внутренней зависимости оттого, в какую иде-
27
ологию, в какие идеалы можно оформить этот строй…» («Мой опыт нетипичен»).
Конечно, Прага — подарок судьбы, возможность доступа к невероятному полю информации. Тем более что Мамардашвили прекрасно знал несколько европейских языков: английский, немецкий, французский, итальянский. А тут появилась возможность познакомиться с практически неизвестными в Союзе именами: Гуссерлем, Ницше, Фрейдом. Даже с Прустом он впервые столкнулся именно в Праге. Потом, после возвращения домой, читал в МГУ свои знаменитые лекции по психоанализу. В конце 60-х в Москве преподнести слушателям Маркса, Ницше и Фрейда в одном флаконе — фурор! Да и должность заместителя главного редактора ведущего философского журнала страны — неплохое развитие карьеры. Это не было странным для окружающих — молодого многообещающего философа, по видимости, либеральных взглядов, охотно поддерживали хрущевские либералы. Это было странным для него: система ошиблась? Но системы не ошибаются, во всяком случае, надолго, и ему придется в этом убедиться.
…Ну, а пока Мераб Мамардашвили пользовался возможностью в относительно благополучных условиях делать то, что его интересовало. «Я считал, что мое дело — философия… Я философское животное, и так было всю жизнь»' («Мой опыт нетипичен»).
Он не переставал думать над вопросом: «Как возможна содержательная логика?» Остальные диастанкуры как-то потеряли к этому интерес: Грушин увлекся социологией, Щедровицкий стоял уже во главе целого методологического движения, Зиновьев ушел в символическую логику. Диалектической логикой продолжал заниматься только,Ильенков — но в совершенно гегелевском ключе.
28
«ДЬЯВОЛ ИГРАЕТ НАМИ, КОГДА МЫ НЕ МЫСЛИМ ТОЧНО»
…Против Гегеля, который эту тему по-немецки искалечил.
М. Мамардашвили «Психологическаятопологияпути»
А вот от Гегеля-то Мамардашвили всегда, как он говорил, «энергично отталкивался». Во многом — из-за гегелевского финализма и претензий на окончательное знание целей мирового процесса. Он даже цитировал студентам кого-то из гегелевских современников: «У меня было страшное ощущение, что с кафедры в лице Гегеля со мной беседовала смерть». Сам Гегель, впрочем, считал, что в его лице познал себя Мировой дух. Если разобраться, то оба этих ощущения суть одно.
Как бы то ни было, Гегель первым попытался придать логическую строгость сумбурному познанию действительности. То, что формальная логика'помочь в этом не может, к тому времени стало очевидным. Уже в «Критике чистого разума», появившейся за 30 лет до гегелевской «Науки логики», Кант писал: «…Чисто логический критерий есть… отрицательное условие всякой истины, но дальше этого логика идти не может, она не может дать никакого признака, чтобы открыть заблуждение, касающееся не формы, а содержания».
В самом деле, чем занимается формальнаялогикакак
наука о законах и формах правильного мышления? Основнойеепринципгласит: правильность рассуждения зависит только от его логической формы. Что такое «логическая форма»? Каждая наша мысль, выраженная в языке, имеет не только какое-то содержание, но и определенную форму. И эта форма легко отделяется от содержания. На-
29
пример, высказывания «Все умные люди — философы» и «Все звери — млекопитающие» по содержанию разные, но есть в них и нечто общее: то, как между собой связываются слова. Если попытаться выразить связь с помощью формулы, получится «Все S есть Р». Вот это «Все S есть Р» — одна из логических форм. Для формальной логики содержание мысли совершенно не важно, ее интересует только, что из чего следует, — характер связи утверждений. С точки зрения формальной логики, утверждения «люди смертны» и «люди бессмертны» одинаково правильны. Для того чтобы формальные умозаключения вообще имели смысл, нужно истинность содержания высказываний установить каким-то другим способом. Понятно, что нового знания с помощью формальной логики не отыщешь.
Гегель же построил науку такой логики,которая пре-тендовала на выявление заблуждений, касающихся именно содержания. Для него логической формой была не просто синтаксическая связь высказываний, а «движение мысли в постоянной соотнесенности с предметом» — форма познания. Игнорировать Гегеля, занимаясь той же проблемой, разумеется, было невозможно.
Критике гегелевского учения о формах познания и были посвящены обе диссертации Мераба Мамардашвили и одна из немногих опубликованных при жизни книг — «Формы и содержание мышления».Что же его не устраивало в Гегеле?
Мир для Гегеля — и здесь кроется трудно преодолимое обаяние гегелевской концепции — не хаотическое нагромождение предметов, а что-то логически цельное и связное. Но что связывает отдельные впечатления от мира в целостную картину? Что это за таинственные связи, позволяющие нам воспринимать мир как умопостигаемый, понятный? Если бы нам удалось их выявить, они, по аналогии со связями в формальной логике, смогли бы сыграть роль логических форм — но уже не формальных, а содержательных.
30
Определяет любую логическую форму то, что она — всегда абстракция.Значит, надо найти абстрактный эквивалент различных конкретных содержаний. Как выявить в непохожем содержании разных предметов то, что их объединяет? Это можно сделать, пишет Мамардашвили, наблюдая, каким образом человек эти предметы познает. Например, мы используем такие формы изучения предметов, как анализ и синтез. Мы можем изучать с их помощью любые вещи, процедура остается одинаковой: разложение предмета мышления на составные части и попытка заново соединить эти части в некоторое целое. Следовательно, абстрактное содержаниев данном случае — связь частей и целого. А это и есть диалектические категории — содержательные –логические формы.
Прием, безусловно, сильный, позволяющий обнаружить основные абстракции, символы, которые «задают всеобщий строй мысли». Но дальше Гегель совершает незаконную логическую процедуру: он отождествляет категории, с помощью которых мы познаем мир, со структурой самого мира. Знание и объект этого знания для него совпадают. Сознание становится тождественным бытию.Начав с изучения форм мышления, впоследствии он смешивает их то с формами окружающей реальности, то с формами знания, как оно изложено в учебниках. И увидеть, как действительно разворачивается процесс мышления, становится невозможно. В итоге мы, не зная, чем сознание отличается от бытия, не понимаем, ни как устроен мир, ни как устроено сознание.
Выходит, что в изучении познания и сознания Гегель нам не помощник. Однако есть в истории философии фигура, вклад которой в раскрытие тайн сознания по достоинству до Мамардашвили никто не оценил.
31
«ПРЕВРАЩЕННЫЕ ФОРМЫ»
…Я прошел не через марксизм, а через отпечаток, наложенный на меня личной мыслью Маркса, и эта мысль является определенной трактовкой феномена сознания.
М. Мамардашвили «Начало всегда исторично»
Трудно сказать, что Карла Маркса в советской философии не жаловали вниманием. Внимания, без ущерба для развития отечественной мысли, могло бы быть и поменьше. Но, как часто бывает, то, что наиболее доступно, труднее всего понимается, хотя бы потому, что не вызывает интереса. Мар-ксова философия так естественно превратилась в Советском Союзе в идеологию, что философией ее, наверное, никто и не считал. Иначе зачем было ее так варварски оглуплять? Просто удивительно, что Мераб Константинович смог взглянуть на нее без шор. «…Я не был марксистом в смысле социально-политической теории… Но, может быть, в отличие от других я был единственный марксист в том смысле, что в философии на меня в чем-то повлиял Маркс…» — говорил он в одном из интервью последних лет. Более того, философию Маркса он считал началом нового представления человека о самом себе, предвестницей возникновения новой парадигмы — неклассической картины мира.
Конечно, свою роль в «открытии Маркса» сыграла и жизнь за границей. И удивился же он, должно быть, обнаружив, что кое-кто на Западе считает Маркса философским маргиналом. К тому же Мераб Мамардашвили обладал довольно-необычным для гуманитария качеством, даже вывел такой принцип философского мышления — «презумпция ума»:никогда не следует считать мысли другого человека глупее собственных. Вполне возможно, что дело обстоит наоборот.
32
При непредвзятом взгляде на Маркса оказалось, что в его философии встречается понятие, во многом проясняющее картину функционирования сознания — понятие «превращенных форм».Не то чтобы Маркс подробно на этом останавливался, задачи он ставил перед собой другие. Но, сам того не ведая, он нащупал ахиллесову пяту классической рациональности. Потому что существование превращенных форм доказывает невозможность отождествления сознания и бытия.
В конце 60-х Мамардашвили пишет две работы на эту тему: «Анализ сознания в работах Маркса»и «Превращенные формы».
Почему сложно изучать человеческое сознание? Настолько, что некоторые философы вообще предпочитают слово «сознание» не употреблять. Одна из причин — субъективный характер материала. Ведь что нам доступно? Ну, собственное сознание мы воспринимаем непосредственно: кому, как ни нам, казалось бы, лучше всего известны наши чувства и мысли. Адругие люди? Где гарантия, что их сознание тождественно нашему? А если это так, то каким образом мы можем в этом убедиться? Выслушать, что они о себе говорят? К несчастью, выяснилось (а к концу XIX века даже ввергло психологию в глубокий кризис), что никакой самый искренний самоотчет не отражает реального положения дел. Человек не понимает себя, склонен выдавать желаемое за действительное, находит фантастические объяснения своих поступков и не замечает того, что находится перед носом. На каком-то уровне самоанализ буксует. Что же делать? И Маркс предложил нетривиальное решение.
Вспомним его знаменитый тезис: «Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя». То есть предполагается, что в человеческом поведении есть нечто, определяющееся каким-то скрытыммеханизмом,действующим на неосознанном уровне и принадлежащим к некоторому над-индивидуальному целому. Значит, какие-то образования
33
сознания мы не можем объяснить путем рефлексии (самоанализа), а должны попытаться найти их основания в другой, вне сознания данной форме. И, следовательно, изучение сознания невозможно без изучения таких форм.
На первый взгляд сходство с Гегелем очевидно: задача исследователя — выявление некой особой онтологической реальности, матрицы для отливки индивидуальных сознаний. Но, на каждом шагу убеждаясь в реальности и действенности форм общественного сознания, исследователь сталкивается с парадоксом: часто эти формы ведут себя не так, как им предписывает классическая философия. Вместо классического единства формы и содержания между ними возникают совсем другие отношения: формы отказываются служить упаковкой содержания, они сами претендуют на роль содержания, превращаются в содержание. При этом никакой реальности они, разумеется, не отражают, отражением реальности было как раз то старое содержание, которое вытеснено, ушло в подсознание. Они симулируют реальность. Однако воздействуют на индивидуальные сознания как самая что ни на есть истинная данность бытия. Их иррациональное происхождение забыто, они становятся конечными причинами, точками отсчета в объяснении реальности, задают «поле понимания».
Превращенной формой, например, являются деньги. «Деньги правят миром». Ни пушкинскому Скупому рыцарю, ни современному международному банку нет дела до истории их возникновения. И, исследуя сознание скупца или строя математическую модель приливов и отливов капитала, нас она тоже интересовать не будет. Ведь здесь деньги не просто всеобщий эквивалент товарного обмена (форма), деньги — символ власти и где-то даже бессмертия (содержание).
Другой пример превращенной формы, можно сказать, философский, — знаковые культурные системы, язык. Философия XX века была просто-таки помешана на языке, из
34
формы выражения мышления превратив его в субстанцию, основание мышления: «язык — единственная реальность среди миражей», «мир — это текст» (а скорее «текст — это мир»). Вот так превращенная форма может лечь в основание онтологии. Только и оставалось вычерчивать таблицы: симулякры 1-го порядка, симулякры 2-го порядка… До реальности не добраться.
Своеобразной превращенной формой может быть идеология целого государства. Конечно, ни в коем случае нельзя сказать, что превращенная форма — это мистификация. Она создает вполне реальный мир. И для тех, кто находится внутри, она— объективная реальность. Мир этот, если не задумываться об его истоках, внутренне логичен и непротиворечив. Как мир шизофреника. Или мир диктатора. «…Начиная с иррационального выражения как пункта, за которым полностью вытеснено, „утоплено" то, что им обозначается рационально, существует и проявляется совершенно четкая тенденция к „образованию систем" — вполне связных-, последовательных и логичных. …Так тенденция к системам ткет мистическое покрывало всего общественного процесса жизни». Превращенные формы существуют в сознании не на вторых ролях: они упрощают объяснение реальности,истинные проявления которой почему-то вытеснены сознанием, «заполняют дыры целого, восполняя его до системной полноты и связности» («Превращенные формы»).
Образование превращенных форм неизбежно,поскольку никакое сознание не способно постоянно удерживать «образ» всех действующих связей в каждой точке реальности — всегда будут появляться более или менее упрощенные модели. В человеческой истории превращенные формы — реальная сила, да еще какая: «Очагом и движущей силой истории, то есть „объективным событием", „фактом" (а не представлением, отличным от факта), является интерпретированное бытие, в применении к которому нельзя отдельно выделить
35
анализом „интерпретацию" бытия его субъектами и „истинное бытие", которое действовало бы помимо своей интерпре-тированности» («Превращенные формы»).
В «Дневнике» Юрия Нагибина, известного советского писателя, есть хорошая иллюстрация действия превращенной формы. Побывав на очередном писательском съезде, он пишет, что увидел там только «ужасающую ложь почти тысячи человек, которые вовсе не сговаривались между собой».
«Эффект превращенности»— пример того, что часто невозможно разделить сознание и бытие, потому что существуют области, где теряет смысл различие между реальностью и способом ее представления. Но само существование превращенных объектов свидетельствует, что сознание и бытие — все-таки разные вещи.
«ПОСТАВИТЬ СЕБЯ НА КРАЙ…»
Мы думаем, что понимание сознания, работа с сознанием, борьба с сознанием вызваны нашим желанием дойти до какого-то доступного нам сейчас предела, причем предела не в чистом умозрении, не в поисках какого-то абстрактного категориального сознания, а предела в поисках основы своего сознательного существования.
М. Мамардашвили «Символ и сознание»
Где-то в конце 60-х в жизни Мамардашвили появились два человека, которые сыграли важную роль в его судьбе. В редакцию «Вопросов философии» пришел Юрий Сенокосов. Дружба с ним поддерживала Мераба Мамардашвили до конца жизни. И именно благодаря ему не пропали после смерти Мамардашвили магнитофонные записи лекций, имен-
36
но он, не считаясь ни с какими «объективными обстоятельствами», в течение 10 последующих лет редактировал их и издавал.
На московских семинарах по методологии Мамардашвили познакомился с Александром Пятигорским, увлекавшимся в то время Индией вообще и буддизмом в частности. Вернее, знакомы они были и раньше, но шапочно, а тут вдруг выяснилось, что их, казалось бы, разные философские пристрастия имеют одну основу — интерес к философии сознания. В результате получилась совершенно замечательная книжка — «Символ и сознание», издать которую, увы, удалось только много лет спустя, в 1982 году, и не на родине, а в Иерусалиме. Пятигорскому, к тому времени давно эмигрировавшему из Союза, оказалось проще пробить публикацию философской книги на русском языке в иноязычной стране, чем профессору Мамардашвили — в родной.
Правда, у «Символа и сознания» была предшественница, вполне легально опубликованная Ю. М. Лотманом в 1968 году в Тарту, в 5-м томе «Трудов по знаковым системам». Предшественница имела название сугубо специальное — «Три беседы о метатеории сознания(Краткое введение в учение виджнянавады)»,и, вероятно, прошла под грифом «история философии». Виджнянаваде, древнеиндийскому учению о сознании, в книге был честно посвящен один абзац, да может быть еще форма изложения в виде диалога, весьма принятая в Древней Индии. А вот как введение в «Символ и сознание» она незаменима. Чудесным образом она передает очарование интеллектуального поиска, диалога двух философов, не похожих ни темпераментом, ни стилем мышления. Словом, вполне художественная вещь.
Все равно, конечно, трудно объяснить, почему «Символ и сознание» оказался написан «в стол». К политике он отношения не имеет — вполне эзотерический философский труд, который авторы, по их признанию, до конца и сами не понимали. Однако действительно есть в нем что-то «несоветское»,
37
какая-то нездешняя свобода мысли. И язык вроде русский — но другой. (Над языком они потом посмеивались: «Так говорят банщики в сандуновских банях», — а напрасно, настоящий трактат о сознании и должен излагаться языком таинственным, сложным и многозначительным.) Да и вообще, они позволили себе писать так, будто советской философии вовсе не было. Вероятно, это раздражало. Как и ироническое посвящение: «Авторы — друг другу».
А книга получилась безумно интересной, хотя и структуралистской. Все-таки написана она в бурных семиотических дискуссиях, в общении с отцом отечественного структурализма Юрием Михайловичем Лотманом. Но даже сейчас, когда ссылками на семиотику виджнянавады никого не удивишь, читая ее, ощущаешь присутствие тайны, мистический зов неведомого.
«Оба мы совершенно уверены, что есть одна философия, по-разному выполненная в текстах разных стран, культур, времен и личностей. Просто одна и та же действующая в ней сила вспыхивала в мире как разные имена», — огорошивают читателя авторы на первой же странице. Тогда эта мысль казалась почти скандальной. Да и до сих пор не каждый историк философии с ней согласится. А для Мамардашвили она стала главной, вылившись в понятие «реальной философии» — медитативного акта постижения мира,– противоположного «философии теорий и систем».
Итак, «Символ и сознание» — книга, балансирующая на грани невыразимого, заявка на описание неописуемого. И перёд исследователями сознания она ставит важные вопросы.
Почему невозможна теория сознания?
Стремление понять сознание вызвано «желанием дойти до какого-то доступного нам сейчас предела… в поисках основы своего сознательного существования». Но чтобы определить, что такое сознание, необходимо определить, что к нему не относится:
38
В философии существуют две устойчивые традиции трактовки сознания, с которыми авторы «Символа и сознания» решительно не согласны: это сведение сознания к взаимодействию нейронов (или, в более мягком варианте, к функциональным связям мозга) и лингвистический номинализм, вообще считающий понятие сознания лже-понятием и редуцирующий его к манипуляции языковыми средствами.
Обе концепции авторов совершенно не устраивают. Если мы считаем, что философия занимается предельными основаниями нашего опыта, следует неукоснительно придерживаться правила: на существование имеют право только такие теоретические объяснения,которые могут стать сознательным опытом—опытом понимания.А знание о существовании нейронных цепей сознательным опытом стать не может. Мы при всем желании не способны их воспринять.
Распространенная теория сведения сознания к языку тоже кажется Мамардашвили ошибочной. Разумеется, наше понимание сознания происходит в языковой форме, но нельзя сказать; где есть язык, там есть сознание.
Язык не нами создан и не нами понят. Чтобы существовать, в индивидуальном сознании он не нуждается. Само по себе пользование языком о присутствии сознания не говорит. Любой хороший болтун это подтвердит. Верный признак того, что человек в «бессознанке», — непрерывное извержение им штампованных фраз. «Можно предположить, что какие-то структуры языкового мышления (механические) связаны скорее с отсутствием сознания,'чем с его присутствием» («Символ и сознание»).
Что такое человек как «знаковое» (пользующееся языком) существо? Это не то существо, которое придумывает знаки, а то, которое всякий раз, когда начинается его работа с вещами и событиями, использует их как сложившуюся знаковую систему, своего рода «аппарат» — некоторое автоматически функционирующее устройство.
39
Сознание — это то, что с помощью языка (знаковой системы) извлекает информацию из имеющегося жизненного материала. Можно определить сознание как текст, создающийся актом чтения самого же текста, возникающего в процессе чтения. Тогда сознание как бы раздваивается на ди-"намический аспект напряженной точки внимания и своего рода повествовательный, содержательный аспект — «текст, создаваемый прочтением самого себя».
Что следует из определения сознания как динамической точки интенсивности? То, что никакая теория сознания невозможна.Сознание просто не может быть для нас объектом, потому что:
1) для того, чтобы осознать сознание, его надо остановить, прекратить: «Сознание становится познанием, и на это время перестает быть сознанием, и как бы становится ме-тасознанием…» — происходит «борьба с сознанием» как спонтанным процессом;
2) любая попытка его описания «уже содержит в себе те условия и те средства, происхождение которых как раз" и должно быть выяснено».
Можно построить не теорию сознания, а метатеорию—теорию понимания сознания. Метатеория позволяет разъяснить свойства, ускользающие от теории, но поддающиеся «закону интерпретирования»:реально действующая сила — это то, какмы воспринимаем случающееся с нами («что»); в зависимости от этого меняется или возникает некая реальность, применительно к которой различение между интерпретацией и объектом не имеет смысла. «Как»и«что»совпадают.Везде, где есть такое свойство, мы имеем дело с тем, что может условно описываться как сознание.
2.Почему не работает«классика»?
Для классической философии сознание — это некий объект, то, что принадлежит человеку (субъекту), для которого данность сознания — самая достоверная точка отсче-
40
та. Если мы соглашаемся с этим, то оказываемся в плену неразрешимых парадоксов.
Во-первых, тогда термин «сознание» применяется и к бессознательным процессам, то есть к процессам, совершающимся спонтанно. Понятие сознания совершенно расплывается, теряет всякую определенность. Так возникает «феноменологический»парадокс.
Второй парадокс, «парадокс Спинозы»:для того, чтобы знать, я должен уже знать, как я буду это знать и почему мне нужно это узнать; а для того, чтобы знать, почему мне нужно это знать, я должен знать, что я хочу узнать, и так до бесконечности. Что-то подобное существовало в теории Атмана у древних индийцев: если я что-то фиксирую как факт моего сознания, то я уже не в этом состоянии сознания, и я, следовательно, уже не «я» и так далее.
Третий парадокс возникает из принятой в классической философии «аксиомы исключительности», устанавливающей области монополии понимания: если мы говорим, что мы что-то понимаем, то мы при этом предполагаем, что это» «что-то» себя не понимает, хотя бы в ситуации нашего понимания. В качестве леммы отсюда и следует разграничение субъекта, носителя сознания, и объекта, лишенного «души».
Суть этих парадоксов состоит в том, что классические способы описания сознания всегда наталкиваются на нечто, ускользающее от рефлексии, хотя сами они неразрывно связаны с рефлексивной процедурой. Для того чтобы их разрешить, необходимо отказаться от претензии на полное понимание, характерной для классики.
3.Каквозможно построение метатеории?
Основная гипотеза:сознание может быть описано вне его приурочивания к определенному психическому субъекту. Здесь оно рассматривается не как свойство психики, а как то, в чем мы находимся и что какой-то частью нам не
41
принадлежит — ведь что-то рассмотреть можно, только находясь на определенном расстоянии.
Основные термины метатеории сознания:«сфера сознания», «мировое событие» и «мировой объект», «состояние сознания» и «структура сознания», «факт сознания», «псевдоструктура сознания».
Сфера сознания вводится как понятие, разрешающее парадоксы классической теории сознания. Если принять гипотезу о равноценности субъекта и объекта, то можно представить себе более универсальный уровень описания бытия, чем уровень разделения на субъект и объект. То есть план «субъекта—объекта» не считается первичным планом умозрения, а вводится другой абстрактный синтезирующий план. Этот первичный план и есть сфера сознания. Это топос, местоположение сознания.
Термины «мировое событие»и «мировой объект»нужны для того, чтобы конкретизировать понятие сферы сознания: некоторые события сознания, в отличие от событий индивидуальной психической жизни, являются событиями, стоящими на линиях, которые пронизывают любые эпохи и находятся как бы вне времени.
Таких мировых событий немного, и сфера сознания относится к ним как «универсальный наблюдатель», замещая таким образом «картезианского человека», универсального субъекта. С этой точки зрения, события, происходящие в индийской мифологии и греческой мифологии, находятся на одной точке мировой линии.
Понятие «сфера сознания» не предусматривает реального события в сознании, это некий символ, интерпретацией которого будут понятия «состояние сознания» и «структура созания»..
Состояние сознания— это «ловушка», «захват» сферой сознания цветами отдельного субъекта.
В каждый момент времени мысль человеческого субъекта на что-то направлена, и вместе с тем она сама есть неко-
42
торое состояние, и это состояние ею самой не ухватывается (не объективируется) — такое необъективируемое состояние и есть состояние сознания.
Состояния сознания не подразумевают конкретного содержания. Но это не просто форма, они могут быть приурочены к конкретным содержаниям, хотя и не однозначным образом: одному и тому же содержанию может соответствовать несколько состояний сознания, либо ряду содержаний может соответствовать одно состояние сознания. (Например, любовь может быть содержанием состояний сознания множества индивидов, или состояние сознания одного индивида может включать в себя несколько содержаний — любовь, ненависть, память и т. д.)
Структура сознания— третья основная категория метатеории. Структура сознания — это содержание, абстрагированное от состояния сознания, то есть она принципиально не индивидуальна. Структура сознания — это «пространственное» существование сознания: «Когда мы говорим, что сознание существует, то представляем себе, что существует ряд совершенно конкретных явлений сознания, мыслимых как одни и те же в отношении содержания». Например: несколько человек высказывают какую-то общую идею, давая нам возможность обнаружить какие-то «одинаковые тексты». Они могут жить в разные века, но предполагается, что как факт сознания эти тексты сознания одинаковы.
Фактсознанияравноценен понятию «случившееся сознание»; то есть факт сознания — это состояние сознания, осуществленное в реальности. Невозможно одновременно переживать факт сознания и его «структурность»: мы бы оказались тогда уже в другой структуре. Поэтому нельзя сказать, что там, где существует факт, существует и структура сознания.
Какие-то факты есть структуры сознания, какие-то играют эту роль в определенных– прагматических ситуациях. Их авторы называют «псевдоструктурами».
43
Например, «человек смертен» — это структура, потому что смысл этого выражения во все времена один и тот же, а понятие «человек» — псевдоструктура, так как в это понятие каждая эпоха вкладывает свое содержание.
«Я» не существует как структура сознания, но соответствует определенному состоянию сознания. Состояние, же сознания может соответствовать и псевдоструктуре, и неструктуре, и ничему. И даже если мы рассмотрим конструкцию «Я» как иллюзорную, она все равно обозначает определенное состояние сознания.
Исходя из факта сознания, как топологического пространства, можно представить психику отдельного человека оказывающейся внутри каких-то структур сознания, составляющих сферу сознания.
Структуры сознания не возникают и не уничтожаются — они онтологичны и не зависят от нашего о них представления. Сознание может уйти из какой-то структуры, но мы ничего не можем сказать о судьбе покинутой структуры. Говорить можно не о рождении структур сознания, а лишь о новом сознательном опыте.
4.Как работает символ?
В Древней Греции символом поначалу называли обломленную половину черепка, которую при расставании оставляли себе, а другую отдавали партнеру. При встрече половинки соединяли и восстанавливали целое. Символ выражал возможность опознать друг друга, соединив части. Его смысл, по греческому определению, — быть разделением единого и единением двойственности.
Символы часто отождествляют со знаками. Знак — предмет, обозначающий другой предмет в его отсутствие и используемый для хранения, переработки и передачи сообщения. Американский философ Пирс, родоначальник семиотики (науки о знаковых системах), считал, что символ — это всего лишь знак, связь которого с обозначаемым пред-
метом возникает не из-за сходства между ними (как в других типах знаков), а просто по договоренности. Договорились, например, что змея будет символизировать мудрость, вот она ее и символизирует.
По мнению Мамардашвили и Пятигорского, такое отождествление символа и знака свидетельствует о непонимании того, как человек «вписан» в мир. В метатеории сознания символ — это «не-знак». Его содержание не имеет отношение к миру эмпирических предметов. В «Лекциях по античной философии» Мамардашвили объяснит это на примере философии Платона. У Платона идеи — это символы сознания, а не знаки. Поэтому у него не идеи обозначают предметы в сознании, а предметы являются знаками идей. Платон понятием «идея» символизировал сознание, и прежде всего — отличия духовных (сознательных) структур от вещественных.
Символ как структура сознания — это возможность единения человеческого существа с мировым целым. Однако объяснить символ, исходя из закона причинно-следственных связей,невозможно. Символ вообще невозможно объяснить, с ним –можно вступить в контакт. Или даже нет: с помощью него можно вступить в контакт с какой-то скрытой реальностью.
В различных культурах действует, то есть становится реальным каналом вхождения в состояние понимания, разное количество символов. В современной западной цивилизации наблюдается интересный феномен: «недостаток символизма».В наше время символы воспринимаются по-пирсовски, как знаки. Считается, что они для того и существуют, чтобы расширить наши знания о нас самих (мы можем долго размышлять, почему змея стала символом мудрости, какие экономические и климатические особенности были этому причиной и т. д.). Но ситуация знания как автоматического накопления сведений психикой индивида противоположна ситуации осознания, исключающей автоматизм.
45
Символы, превращаемые в знаки, перестают работать, быть посредниками между бесконечной сферой сознания и конечным человеческим существом. Превращаясь в еще один «факт», они не могут больше противостоять раздроблению эмпирической личности. Так недостаток символизма рождает чувство бессмысленности жизни и абсурдности мироздания. Современный человек теряет веру в возможность понимания целого без знания всех его частей. Пытаясь черпать уверенность в конкретных сведениях, он сталкивается с дурной бесконечностью непрерывно множащихся объектов. Что и ввергает его в состояние, называемое в постмодерне «эпистемологической неуверенностью», — иначе говоря, безысходное чувство невозможности понять мир.
5.Каковы постулаты новой символологии?
Первый постулат: никакой символ не может прямо соотноситься с одной конкретной содержательностью (или структурой) сознания.
Одна и та же структура сознания в какую-то эпоху могла породить обряд инициации, а в другую — сказочный текст. Значит символ существует во множестве интерпретаций, которые принципиально неисчерпаемы.
Второй постулат: когда мы говорим, что понимаем или не понимаем объект (знаем какой-то факт или не знаем), то это понимание или непонимание зависит от нас. А когда мы говорим, что мы не понимаем или понимаем символ, то это зависит от самого символа.
' И если какой-то символ не «работает», не вводит нас в нужное состояние сознания, то причина этого — не недостаток способности его расшифровать, а независимость от нас существования того содержания, которое символизируется. Ну не хочет оно нас сейчас. То есть само наше непонимание указывает на самодостаточность этого содержания, тЬ есть — бытия.
46
Третий постулат:если с точки зрения лингвистики слово произвольно в отношении того, что оно обозначает, то с точки зрения метатеории сознания символ абсолютно непроизволен в отношении структуры сознания, с которой он соотносится. Например, слово «ложка», обозначающее ложку, — произвольно. Мы могли бы называть ее «черпалкой», ничего бы не изменилось. А змея как символ — непроизвольна. И непроизвольна не только как животное, но и как слово «змея».
Четвертый постулат: символ — это вещь, обладающая способностью индуцировать состояния сознания, через которые психика индивида вводится в определенные структуры сознания.
Это означает, что «Я» может находиться в «поле символа», не осознавая смысла этого символа, но будучи под его воздействием. «Я» может просто не знать, что это — символ, он сработает как «портал», говоря языком писателей-фантастов.
Английский этнолог Марет, собирая в Бретани, Ирландии и кельтской Великобритании материал о культе леших, русалок и нимф, пришел к выводу, что нельзя ставить вопрос: «На чем основаны представления о русалках и леших?», а нужно спрашивать: «Что надо сделать; чтобы увидеть русалку, нимфу и лешего?»
Может быть, напрасно мы относимся к «диким» магическим цивилизациям с покровительственной иронией? А что если это не ущербность, а умение использовать символическую реальность в отсутствие непременного логического обоснования получаемых результатов?
6.Как культура относится к сознанию?
Сознание и культура относятся друг к другу сложно, можно сказать — амбивалентно. Основная функция сознания — выход за пределы известного. Основной капитал культуры — устоявшееся, готовое знание: «Культура есть то,
47
что культивирует… автоматизм мышления» («Символ и сознание»). Нечто от сознания (символ) попадает в культуру и подвергается «культурной формализации». И тогда символы нам даны уже не как вещи, соединяющие нас с определенными структурами сознания. Нам дана лишь область их культурного употребления. Символы, лежащие на уровне спонтанной жизни сознания, культура пытается объяснить, и эти объяснения могут превращаться в псевдосимволы, своего рода превращенные формы — вторичные символические структуры. Вторичные структуры — это знание без понимания, мифология.Они нужны как способ приобщения к первичным символам масс людей, которые по каким-то причинам не могут приобщиться к ним напрямую. Магия — это пример вторичной структуры: какие-то магические действия ведут к определенному результату, но почему, никто не понимает.
7.Наши перспективы
«Мы кончаем эти рассуждения скептически: почему, собственно говоря, нужно столь долго и сложно рассуждать для понимания и объяснения символической жизни сознания тогда, когда символическая жизнь сознания предполагает в принципе непосредственное понимание?.. Мы думаем, что символ может быть непосредственно понятен только тем, кто сознательно связан с ним в своей жизни».
48
СКВОЗЬ ТЬМУ
Так вот, к тем словам, которые у нас уже были (мы накапливаем слова и термины), прибавились еще кое-какие слова, не все, конечно, понятные, — скажем,, «тоска», «страдание», «труд жизни», «отстранение». И хотя ни одно из этих слов не говорит о времени, но они в действительности все содержат в себе значение времени, и в этом мы убедимся.
М. Мамардашвили «Психологическая топология пути»
Написанные нами книги переписывают в свою очередь нашу жизнь. Как будто бы «Символом и сознанием» нарушилось хрупкое равновесие двух измерений реальности: символическое бытие втянуло в себя материальное. Неожиданно и очень быстро эмигрировал в Англию Пятигорский. Неожиданно сместили с поста главного редактора «Вопросов философии» Фролова, а остальной состав хорошо «почистили», избавившись от чуждых советской философии элементов. В основном, от Мераба Мамардашвили.
Академической размеренности в его жизни больше не будет. «Мы убеждены в непредсказуемости мышления… Однако возможно порождение установки на то, чтобы рассматривать самого себя как материю эксперимента, рассматривать свою жизнь как то, в чём могут быть созданы такие условия, при которых мог бы самостоятельно возникнуть эксперимент нового сознательного опыта… Одной из посылок такой настройки является отказ от важнейшей установки европейской культуры на сохранение последовательного тождества с самим собой…» — писал он в «Символе и сознании».
С этой позиции, лучшие условия для рождения мысли трудно придумать — завтрашний день под постоянным вопросом. Как-то постепенно оказались в эмиграции близкие
49
ему люди: женщина, которую он любил, Пятигорский, Эрнст Неизвестный.
Уехал в Америку Зиновьев, напоследок хлопнув дверью: издал за границей роман «Зияющие высоты» — довольно злую карикатуру на бывших друзей. Они, «недалекие», восприняли «гениальное произведение» именно так. Щедровиц-кий, обожавший Зиновьева, до конца жизни переживал какую-то по-детски горькую обиду. Реакцию Мамардашвили Зиновьев в «Зияющих высотах» предугадал довольно точно: «Мыслитель сказал, что тут Клеветник совсем деградировал, и выбросил рукопись в мусорное ведро». «Когда Мерабу показали „Зияющие высоты", он сказал: „Сашу надо отшлепать". Вот и вся реакция», — вспоминал Николай Щукин, сотрудник Института психологии, в котором Мамардашвили читал лекции в 70-е годы.
Вообще, умиляет, когда одиночка Зиновьев оправдывается перед одиночкой Мамардашвили: «На последней странице записок Клеветника Мыслитель заметил слова: если хочешь быть другом — стань врагом, такова печальная участь всякого порядочного человека, дерзнувшего сделать благо. Но смысла этих слов Мыслитель не понял» («Зияющие высоты»). Да понял он. Так и рассматривал неординарный поступок товарища: как повод к размышлениям о странной судьбе русской духовности. Хотя", может быть, более естественным было бы обидеться.
Не складывалось с работой — вузы менялись калейдоскопически: психфак МГУ, ВГИК, Высшие курсы сценаристов и режиссеров, потом Рига, Ростов-на-Дону… На лекции, бывало, собиралось по 300 человек, люди приезжали из других городов. К сожалению, продолжались лекции недолго. Радовался, если удавалось продержаться несколько семестров. «Большой общественный резонанс» — не всегда благо. На руководство очередного вуза давили «сверху», оно с извинениями курс прикрывало, и ничего не оставалось, как ждать следующей возможности.
50
В марте 79-го, не сумев выбраться из депрессии, покончил с собой Ильенков.
В 80-м Мамардашвили пришлось уехать в Тбилиси: в Москве работа иссякла.
Это были какие-то кривые годы, время, когда ничего не сходилось. Мераб Константинович впоследствии будет говорить о необходимости таких периодов для «вызревания мысли», цитировать Данте: «И появляющийся Вергилий ему говорит, что этим путем не пройти, есть другой путь — в тоннель. А в тоннеле — ад, и все круги ада нужно пройти. Нужно пройти тень, нужно „утемниться", чтобы возник свет; нужно пройти страдание, реальное испытание, и тогда окажешься на той горе, к которой был прямой путь». «Амеха-ния в апории» — называлось то же самое у древних греков.
За 10 лет (от «Символа и сознания» (1974) до «Классического и неклассического идеала рациональности» (1984)) он практически ничего не опубликовал — только выступление «Обязательность формы» на «Круглом столе» по теме «Взаимодействие науки и искусства в условиях НТР» в «Вопросах философии» и пару небольших статей. За эти 10 лет (и даже меньше — с 1978 года) им были созданы б из 8 лекционных курсов, которые потом, уже после его смерти (спасибо Юрию Петровичу Сенокосову), станут книгами: «Введение в философию», «Лекции по истории античной философии», «Картезианские размышления», «Кантианские вариации», «Современная европейская философия. XX век», «Лекции о Прусте».
Но самая интересная и важная работа так и осталась недописанной. Все курсы, которые он потом читал, — только перевод ее идей на доступный студентам язык.
В изложении Сенокосова ее появление выглядит довольно-таки анекдотическим. Вскоре после увольнения из «Вопросов философии» Мамардашвили оказался сотрудником Института истории естествознания и техники. Научный сотрудник, по определению, должен заниматься созданием
51
научных текстов. И Мераб Константинович, как человек обязательный, года за два такой текст создал. И даже название ему придумал в соответствии с профилем учреждения: «Набросок естественно исторической гносеологии». После этого непонятно чем пораженное начальство попросило его уволиться — якобы за невыполнение плановой тематики. Можно разделить возмущение Юрия Петровича: как это работа о развивающемся знании может не соответствовать тематике Института истории естествознания? А начальство, скорее всего, просто дальше третьего тезиса не продвинулось:
«Имеем, с одной стороны, формы-сущности, с другой — тела понимания, вместе = индивиды (монады), вернее, сверхиндивиды… Проявлением их жизни является наша мысль, наши мысли. То есть познание нами чего-то есть познавательный эффект их действия, их жизненно-рабочий эффект. Этот эффект и есть человеческое познание как состояние, сами же они живут космической жизнью, жизнью в сфере (с которой единственно реальные психические силы субъектов находятся в сложном структурном единстве); то есть они порождают этот эффект на стороне субъекта, и задача истории— в реконструкции и исследовании их естественной жизни, а не в выстраивании в линию Отдельно взятых эффектов (или выстраивании линии из этих эффектов), линию непрерывного реального хронологического времени».
Вероятно, руководство института имело свое мнение по поводу задач истории.
52
Как читать философские тексты? (Отступление третье)
…Моя дальнейшая задача будет заключаться в том, чтобы рассматривать философские утверждения не только как элементы индивидуальных миров сознания, а как элементы каких-то ситуаций и структур философствования…
М. Мамардашвили «Сознание как философская проблема»
Прежде чем продолжить разговор о «Стреле познания» (так потом стал называться «Набросок естественноистори-ческой гносеологии»), попытаемся разобраться, почему эта книга не была понята руководством института, состоящим, скорее всего, из образованных людей. Сделаем это с помощью более поздних работ Мераба Константиновича Мамардашвили– — «Сознания как философской проблемы» и «Классического и неклассического идеала рациональности». Речь в них идет о структурах рациональности, задающих границы нашего понимания.
За месяц до смерти, в'октябре 90-го, в «Вопросах философии» вышла его последняя статья «Сознание как философская проблема».Статья о том, почему сознание — предельное понятие философии, о фундаментальных философских абстракциях, а главное, о том, что мешает нам адекватно воспринимать философский текст.
Философия, казалось бы, простая наука — она ставит вопросы, которые напрямую касаются каждого. Что такое «Я»? Почему мы что-то не понимаем? Почему не понимают нас? Каковы правила игры под названием «жизнь»? И почему философские тексты часто оставляют чувство разочарования, еще больше запутывают, вообще кажутся «не о том».
Мерабу Константиновичу по роду занятий пришлось говорить о философии и с профессиональными философами,
53
и со студентами, существами подневольными, вынужденными зубрить этот «скучный» учебный предмет, навязанный деканатом ради сомнительного «общего образования». Выяснилась интересная вещь: не только студенты, но часто даже «специалисты» воспринимают философию всего лишь как архив более или менее экзотических теорий. Запросто можно услышать такое рассуждение: «Фалес считал, что первоначало всего — вода, Гераклит — огонь, а Маркс в основание положил классовую борьбу. Что На это можно сказать? Если в свое время они и сходили за умных, то человечество с тех пор сильно продвинулось».
По мнению Мамардашвили, философия отнюдь не является «архивом теорий», философия—это реализованное сознание. Эта натуральная, или реальная философия
представляет собой «некое мысленное, духовное поле». Если что-то действительно «помыслено» (ухвачена какая-то мысль), то оно истинно для всех. Потому что «…философское поле у всех философов однр. Они просто по-разному, приходя к разным выводам из разных посылок и допущений, эксплицируют то, что мы назвали реальной философией». Кажущееся различие происходит из-за разного философского языка — на уровне «философии учений и систем».
Итак, для того чтобы грамотно читать философский текст, нужно следующее.
1. Изучать философский язык.«…Самая большая сложность в обращении с философией — трудность узнавания. Вот что-то есть, а мы не знаем — что именно. Просто потому, что не умеем соотнести язык этого „что-то" с тем, что мы знаем <…> что когда-то испытывали или пытались понять, не обращаясь к этому языку».
2. Помнить,что философский текст—это реализованный опыт сознания. Философское высказывание состоит из сложных мысленных ходов и абстракций. Для того чтобы его понять, эти мысленные ходы должны браться
54
вместе, целиком.«Отдельно взятое философское утверждение становится по меньшей мере смешным, если оно вырвано из контекста, из расчлененного философского аргумента, характеризующегося разными уровнями движения мысли…» Можно ведь, понадергав цитат, все что угодно сделать нелепицей. И быть искренне уверенным в своей правоте. И что тогда остается философу? Грустно сказать: «Простите, я не о том говорю».
3. Избегать превращения философских понятий в мифологические образы.Все, что мы используем, не понимая, не продумывая самостоятельно, — мифология. К философии это (в нашем конкретномслучае) отношения не имеет.-
Третьего правила придерживаться сложнее всего. Пото-> му что здесь нашу собственную умственную лень поддерживает механизм культуры.(Вспомним «Символ и сознание»: «Делать что-то без понимания, механически и есть культура… Культура есть то, что культивирует объективно Направленный автоматизм мышления».)
Почему философия все время находится в состоянии кризиса? Почему практически каждый крупный философ заявлял, что совершил философский переворот — нашел истину, и предыдущую философию теперь можно отбросить за ненадобностью? Именно потому, что философский акт — борьба с застывшим прошлым, с автоматизмами мышления, извлечение живого содержания сознания из закостеневших культурных форм. И создание, конечно, тем самым новых форм, которые ожидает та же судьба. «В этом отношении все, созданное человеком, претерпевает свою судьбу, включая ифилософские понятия». Так что, кризис — это естественный способ существования философии как сознания.
55
Зачем знать философский язык?
Можно, конечно, его и не знать. Не только профессиональным философским языком говорят о человеке и мире. Вполне годятся язык кино, язык художественной литературы, даже живописи — ведь с их помощью мы тоже многое понимаем. Но вот что определяет саму эту способность по: нимания? Почему 100 лет назад для людей казалось очевидным одно, а сейчас они верят совсем в другое? Ведь не потому же, что раньше все поголовно были глупее, или наоборот — поглупели все сейчас.
Размышление над этими вопросами требует навыков абстрактного мышления, умения видеть за разнообразными «случайными» .событиями формирующие их силы. Философский язык и работает на этом уровне абстрагирования. И анализируя его развитие, можно выделить фундаментальные философские абстракции— смысловые структуры, «порождающие» способы понимания окружающего мира.
Европейскую культуру можно свести к трем фундаментальным философским абстракциям, задающим ту или иную картину мира. В основе каждой абстракции лежит определенное представление о сознании.
Первая философская абстракция (Платона)— это абстракция рациональной структуры вещи,или абстракция «выполнение понятого».Сее помощью обосновывается постижимость бытия.
Платон известен нам тем, что говорил о существовании мира идей.Но необходимо помнить, что мир идей—это не сверх чувственная реальность.Спомощью представления о мире идей Платон обосновывал возможность как познания вообще, так и философского познания в частности.
Метафизикой предполагается, что человек, помимо способности воспринимать окружающий мир, может также взаимодействовать с другой реальностью, не своди-
56
мой к эмпирической. Это измерение возможно воспринять только духовно, как бы перескакивая через эмпирические обстоятельства. И именно здесь мы имеем дело с сущностью человека. «Это переход в другое измерение, поверх собственной культуры, собственной ситуации, и т. д., или, как говорили древние, — «отрыв от колеса рождения» («Лекции по античной философии»). Восприятие этого измерения в философии называется трансценди-рованием.
Тут возникает парадокс: трансценденция— это выход за собственные пределы. Но человек выйти «из себя» не может, он погружен в эмпирический мир, и другого мира на чувственном уровне для него не существует. То есть действие трансцендирования налицо, но собственно трансцендентного нет.
Но есть-какие-то структуры,входя в которые, наши психические состояния получают другой режим жизни:они не рассеиваются и не распадаются — как распадаются, исчезают обычные эмпирические переживания. Вот эти упорядочивающие структуры, позволяющие сохранить наши мысли и чувства и понять их смысл, Платон называет идеями.Это нечто абсолютное (неизменное) в мире хаоса и распада. «Жизнь» идеи можно сравнить с некой тканью, на которой расположены точки эмпирического бытия и которая позволяет «собрать» их в смысловую цельность.
Чем философское размышление отличается от любого другого?
В философском размышлении происходит как бы вынесение за скобки всех предметных картинок и переход на новый (другой) уровень осознания реальности – уровень рефлексии.
Мы не можем осознать трансцендентное. Но мы можем осознать действие трансцендирования: описать то, что с нами, в нашем сознании, в этот момент происходит. «Это рефлексивное дублирование или сосредоточение в своем
57
сознаниии тем самым засекание трансцендирования на себе и есть сущность (идея)».
Трансцендирование происходит спонтанно, но осознается только путем повторения — через его механический рефлексивный дубль. Это сознание и есть тот материал, из которого строятся наши истинные понятия о вещах внешнего мира. И понятие сущности (идеи) — а это основа философского языка и теоретического знания — появляется применительно к рефлексивному уровню(уровню сознания).
С течением времени представление о мире идей подверглось естественному процессу мифологизации. Платоновская абстракция сущности выродилась в представление о сверхчувственной реальности, некоем «мире идей», стоящем над эмпирической действительностью. Что и превратило "ее из средства познания мира, силы, помогающей войти в поток мысли, или сферу сознания, в мифологизированный тормоз мышления.
Вторая философская абстракция (Декарта)возникает в xvii веке. Она снимает мифологические напластования с первой и делает возможным появление новых ходов в философии. Это абстракция «разрешимости»,или абстракция операционального сознания. Она лежит в основе картезианской парадигмы — классического идеала рациональности.
Итак, как мы можем получить истинное знание о мире? Философией Нового времени предполагается следующее: мы можем познавать мир в той мере, в какой способны стихийному воздействию мира на психику человека противопоставить такие операции сознания, которые можно контролировать и воспроизводить и на основе которых можно сопоставлять «идеи» с опытным знанием. Проще говоря, вычленяются (или конструируются) те операции сознания, с помощью которых мы приходим к таким выводам о действительности, к которым придет любойчеловек, выполнив-
58
ший те же операции в тех же заданных условиях. Возникает классический идеал рациональности.
В философии заново осмысляются отношения субъекта (познающего) и объекта (познаваемого).
Каковы же особенности классической трактовки сознания и взаимоотношения объективного и субъективного?
Во-первых, к объективному приравнивается все, что доступно внешнему наблюдению, то есть объективное тождественно пространственному, как тождественно пространственному и все материальное. Мир — совокупность физических тел, а физическое тело— это то, что расположено в пространстве.
Отсюда вытекает основной принцип опытной науки,то, что воспринимается органами чувств, есть только материальные тела и их действия. Если материя отлична от сознания, а сознание имеет внутреннее, психическое, измерение (то есть непространственно), значит, материальные процессы — это то, и только то, что полностью выражает себя с'воим пространственным расположением, поддающимся внешнему наблюдению.
Во-вторых, внешнее наблюдение, способное раскрывать сущность предмета, задается декартовским правилом «ко-гито»(«cogito ergo sum» — «Мыслю, следовательно существую»): сознание обладает свойством непосредственной достоверности, самоочевидности. Мы не можем быть уверены ни в чем — все, нами воспринимаемое, может быть иллюзией. Но сама мысль: «Я это воспринимаю», — не зависит от органов чувств. Она трансцендентальна. (Не путать с трансцендентным— тем, что находится за границами чувственного опыта. Трансцендентальное(термин Канта) — это те структуры сознания, которые делают, возможным чувственный опыт. Например, мы способны воспринимать вещи только как находящиеся в пространстве и времени/ Значит,– пространство и время — трансцендентальные формы чувственности. Мы обладаем ими до всякого опыта, a priori; как раз они и делают опыт возможным.) .
59
Речь в данном случае не идет о содержании сознания, Имеется в виду только факт осознавания.
Причем, чтобы мы что-то могли высказать рационально, доказательно, приходится предполагать, что в акте познания все люди тождественны друг другу, и если кто-то один что-то понял, то понять это могут и все остальные. Индивидуальные особенности людей нас не интересуют, нам интересно абстрактное познающее существо, абсолютно тождественное любому другому познающему существу. Поэтому центральной фигурой в классической философии и становится это самое существо, или, выражаясь философским языком, трансцендентальный субъект.Человек, сведенный к трансцендентальному субъекту, становится константой, наделенной универсальными способностями познания.
Но возникает проблема: как объединить в один мир два ряда явлений — ряд физический и ряд сознания? Как решить гносеологический парадокс:«именно в той мере, в какой вещи лишены „внутреннего" (души), и мы их понимаем физически — условия понимания вещей идеализированы»?Ведь таких метафизических монстров, как, абсолютное пространство и время, абсолютный интеллект, в реальности не существует — это теоретические допущения, введенные для удобства. Получается, для того, чтобы познать реальный мир, мы вынуждены отказаться от его целостности и сложности и удовольствоваться изучением упрощенной модели. «Тем самым мы точную картину физических явлений в мире покупаем ценой нашего непонимания сознательных явлений… Как живые реальные существа, мы продолжаем понимать и весьма свободно ориентироваться и жить в сфере сознательных явлений, но мы не можем построить относительно их теорию. Иными словами, мы не можем их зафиксировать объективно, что делает человека и жизнь — и это самое главное следствие — чуждыми объективно изображенному физическому универсуму, выбрасывает их из него» («Классический и неклассический идеал рациональности»).
60
Третья абстракция (Маркса) соответствует уже неклассическому видению мира. Это абстракция практики или предметной стороны деятельности.Рефлексивная конструкция самосознания, с присущими ей правилами объективности и рациональности, больше не способна адекватно объяснить бытие человека в мире. В автономном трансцендентальном субъекте человек перестал узнавать себя. Никакое сознание (в том числе привилегированного интеллектуала) не есть «чистый» ум, независимый от окружающего мира.
Маркс обнаружил измерения сознания, которые не контролируются человеком и не осознаются им. То, что сам человек думает о своей сознательной жизни, — иллюзия. Некоторые измерения («слои») сознания «реально живут и движутся в терминах систем отсчета других, надстроенных над ними слоев». Например, какие-то свои чувства по отношению к другому человеку мы можем называть «любовью» — в соответствии с принятой в нашей культуре маркировкой.
Маркируя что-то, происходящее в нашем сознании, как «любовь», мы пытаемся втиснуть свои чувства в заданную социумом форму. И иногда при этом калечим себе жизнь, подменяя (подминая) осознание действительного содержания своих чувств культурным стереотипом.
Абстракция практики различает в сознательном бытии два типа отношений: во-первых, отношения, складывающиеся независимо от сознания (те же самые культурные стереотипы); во-вторых, отношения, которые складываются на основании первых и являются их идеологическим выражением — «превращенные формы» сознания.
Превращенные формы — это «наглядность ненаглядного», «картинки», иллюстрирующие то, что по сути безобразно. Они появляются вместо того, «чего я не знаю», и позволяют в ситуации незнания вполне комфортно существовать. Для того чтобы не разориться, предпринимателю нет нуж-
61
ды знать все тонкости экономической системы. Он скорее разорится, если будет пытаться скрупулезно их выявлять. Ему достаточно «видимости». А вот исследователю сознания без «расколдовывания» превращенных форм не обойтись.
Задача философа вообще — заниматься только индивидуальными событиями своего собственного сознания. Но он должен заниматься ими так, чтобы они были зеркалом чего-то другого.
М. Мамардашвили «Психологическая топология пути»
Нужен новый метод изучения сознания.Метод классической рефлексии (самоанализа) не годится. Слишком многое из того, что еще необходимо понять, она полагает само собой разумеющимся. Слишком жестко она разделяет сущность (внутреннее, истинное содержание предмета) и явление (внешние, иллюзорные формы его существования), сосредотачиваясь именно на выявлении вечных и неизменных сущностей. К чему тогда сводится мысль? К своему логическому содержанию. То, что мысль почему-то рождается, и сам факт ее существования как будто вовсе не важны. Но изучать мышление, игнорируя его событийный, живой характер, все равно что пытаться понять человека, препарируя его труп.
Для того чтобы хоть как-то приблизиться к пониманию сознания, необходимо посмотреть на него другим взглядом, переключить внимание с содержания сознания на его существование — совершить феноменологический сдвиг.
Мысль не рождается из старой мысли, новое знание потому и новое, что — другое. Задним числом мы можем плести объяснительную логическую цепочку хоть от времен
62
царя Гороха. Казалось бы, воспользуйся найденным логическим алгоритмом и гроздями снимай новые мысли. Только почему-то не выходит. Наша недюжинная эрудиция гоняет нас по кругу готовых объяснений и формул, пока мы не выдохнемся. После этого возможны два варианта развития событий: объявить о своем разочаровании, допустим в философии, или попытаться увидеть мир своими глазами. В нашем случае, чтобы судить о сознании — необходимо вглядеться в сознание, в то, как оно функционирует в реальности, а не в различных теориях.
Мы не можем воспользоваться теорией, но можем использовать методы наблюдения. Один из таких методов предложил немецкий философ Гуссерль. Он и считал, что наблюдение сознания должно начинаться с процедуры феноменологической редукции:сосредоточения на том, что происходит в сознании, без апелляций к внешнему миру. Внешнее Знание аннулируется, «выносится за скобки», оно нас не интересует, мы наблюдаем только то, что происходит в нашем сознании. А это значит: описываем, а не объясняем.Потому что, объясняя, мы волей-неволей используем чужие теоретические конструкции, жестко задающие перспективу взгляда. «Ибо объяснительные представления о происходящем во внешнем мире могут быть и магической „теорией" <…> то есть в какой-то другой культуре то же состояние имело бы над собой другой надстроенный слой и существовало бы и двигалось внутри и в терминах этого слоя (в смысле способа самоотчета его субъекта, носителя)» («Классический и неклассический идеал рациональности»).
Первое, с чем мы сталкиваемся при наблюдении, — структура события сознания иная, чем структура события внешнего мира. Ее невозможно описать с помощью терминов «сущность» и «явление». Классически действительным существованием обладает только сущность, а явление — нечто эфемерное, не обладающее собственным бытием.
63
В событии сознания явление онтологично, ни в какой другой сущности для своего существования не нуждается. Оно становится феноменом.То есть структуры сознания заданы феноменально. Что же это такое?
Феномен— некое целостное образование сознания, далее не разлагаемое и не нуждающееся в объяснении через что-то другое. Например, мы видим, как Солнце движется по небу. Этот факт — феномен нашего сознания. Именно он лежит в основе многих мифов, легенд и сказок о взаимосвязях жизни. И совершенно излишней будет попытка объяснить эти представления с помощью астрономического или любого другого научного знания. Феномен самодостаточен, в нем «содержится то, что „произошло в действительности" в смысле испытания мира, в отличие от последующего нароста, поддающегося анализу… Именно проявление целого как целого феноменально — феномен есть, так сказать, его иероглифический знак» («Классический и неклассический идеал рациональности»).
Итак, нам известны, по крайней мере, начальные этапы работы с сознанием:
1) «вынесение за скобки» внешнего мира и полная сосредоточенность на феноменах сознания;
2) совершение феноменологического сдвига внимания (смещение «точки сборки»);
3) наблюдение и описание, а не объяснение.
64
«СТРЕЛА ПОЗНАНИЯ»
Новый, иной, более высокий смысл того, что стоит и в натуральном ряду фиксаций, наблюдений, переживаний («земных»). Он дан в общественном пространстве, для всеобщего обозрения — особого рода тексты, тексты, которые всегда осознаются как странные, привиденческие («неземные»)…
М. Мамардашвили « Стрела познания»
Ну, скажем, какой может быть душа у тела, которое было бы жидким, как Океан в книге Лема? Нет никаких философских соображений, которые бы заставили нас исключить такую возможность. Однако философские соображения говорят нам, что если… Океан — сознательное существо, то как сознательные существа мы — с ним, мы — такие же.
М. Мамардашвили «Картезианские размышления»
Мамардашвили обеспечил себе место в истории философии уже только «Стрелой познания». По концентрированности и интенсивности мысли немногие книги с ней сравнятся. Если воспользоваться «полевым» определением сознания, то «Стрела познания» — область его высокого напряжения. Читать ее невероятно трудно. Письменные тексты Мамардашвили вообще требуют усидчивости: обычно он пользовался языком, усложненным даже по академическим меркам. Но «Стрела познания» не академична — она о вещах, язык для которых еще не создан. Даже сейчас, через 30 лет после ее написания, понятийный аппарат аналитики сознания до конца не разработан. Не потому, что феноменоло-ги-гуссерлианцы мало старались. Просто принцип наблюдения подразумевает непосредственное видение того, что наблюдаешь; а значит, чтобы описать определенные струк-
65
туры сознания, необходимо туда сначала попасть. А это не всегда просто.
Переход из привычной структуры сознания в новую бывает очень болезненным и часто сопровождается ощущением хаоса и личностного распада. «Мы телом отгорожены и от прошлого, и от будущего. И лишь строя новое тело, получаем свободу изменения (и снимаем себя с крючка прошлого, ибо прошлое вовсе не просто факты, а записи фактов вместе с нестираемым пониманием, а поэтому речь может идти лишь о физически сильном расшатывании и об образовании дыры для эмердженции нового сознательного опыта, но не о рассудочном, произвольном прохождении взад и вперед). Исчезновение — условие появления. Иначе место занято» («Стрела познания»).
В европейской культуре (в отличие, скажем, от древнеиндийской) техникапереходане отработана, выполняется на свой страх и риск. Даже если переход в другую структуру жизненно важен, его стараются сделать как можно более бессознательным, применяя любой наркоз — от запоя до бессмысленной лихорадочной деятельности. При этом человек изо всех сил держится знакомых областей сознания, а они очень поверхностные, «слишком человеческие». Осознанное восприятие более глубоких слоев погружает в состояние «фундаментальной изоляции»: реальность оказывается настолько отличной от обыденных представлений, что боишься сойти с ума. «Антиномия: видеть А — сумасшествие; нужно сойти с ума, чтобы увидеть А. Интерпретируем вторично (и, следовательно, зависимо), чтобы не сойти с ума (и становимся, тем самым, „вещами" — живая бесконечность умирает)» («Стрела познания»).
Значит, первая проблема: для того, чтобы что-то увидеть, нужно измениться.И это изменение необратимо, а результат его неизвестен.
Вторая проблема: резко сужается возможность коммуникации с существами своего вида. Она напрямую сле-
66
дует из первой: тебя способен понять только тот, кто имеет сходный экзистенциальный (жизненный) опыт. Передача знания «из одной головы в другую» с помощью вербальных средств — иллюзия: «…Мы телом, физически (то есть независимо от доброй воли и чистого усилия мысли) отгорожены от возможной информации и понимания. И в этом смысле они в другом месте и в другом времени, с которыми у нас разрушены физические связи…» Язык нового опыта буквален: «Слова „смотреть другими глазами" имеют для нас буквальный (то есть не просто ментальный) смысл, как и выражение „мыслить другими органами мышления"». Но теми, кто не испытал то же самое на собственной шкуре, все, что ты говоришь, будет восприниматься как фантазия или метафора, и ничего, кроме вреда, не принесет.
С этими проблемами приходится считаться в первую очередь читателям «Стрелы познания»: по объективным причинам что-то может быть просто недоступно адекватному восприятию. Ее текст — документальное (в смысле точности) свидетельство определенного опыта бессубъектного сознания и, конечно, анализ этого опыта.
Она состоит из пронумерованных тезисов разного объема: от нескольких строчек до нескольких страниц; последний, 160-й, обрывается на полуслове. Что-то вроде путевого дневника сталкера. Для печати она, похоже,– не предназначалась.
Пересказывать «Стелу познания» — дело неблагодарное. Этот текст имеет сильную энергетику и далеко не исчерпывается «коммуникационным материалом». Можно попытаться обозначить три основные сюжетно-смысловые линии: содержание опыта (что?); способ достижения опыта (как?); возможность его описания и формализации (на каком языке?).
1. Нет отдельных «бытия» и «сознания», есть континуум «бытие-сознание», состоящий из «живых сознательно-деятельных систем». Его единица — не человеческое, а
67
«ангельское тело (ангелы — индивиды, а мы — нет, мы в лучшем случае личности, но не индивиды)». Не стоит только воспринимать «ангелов» в виде предметной (мифологической) картинки: «формы, гармонии, вместе с их „телами", живут как отдельные живые существа, организмы (но мы можем мыслить их существование лишь символически, а не предметно натурально, и не применяя обычных наглядных категорий — скажем, они не умирают и не бессмертны, а мы в них всплываем и из них уплываем)».
Сознание — не форма отражения материи: « Не существует никакого отражения, существуют лишь чудовищно „тяжелые", „плотные", „упакованные" атомы ума (атомы действия, конечно, — поэтому их лучше называть квазичастицами ума, атомы-генераторы, являющиеся приставками к нам или насадками на наш ум…» Биоинформационное пространство дискретно — это гипотетические чувствующие и мыслящие «существа» или «мыслеорганизмы», каждый из которых образует собственное пространство и время. Они не наблюдаемы. На них мы проецируем «наблюдаемое» — индивидов. Нужен язык описания таких существ — критическая аналитика сознательных форм.
Человеческая жизнь — экспериментальный материал: «Эмпирический субъект может быть стороной или питательной плотью разных мыслеорганизмов, то есть различные части его сознания и психики могут жить в разных пространство-временах, что предполагает дискретизацию "и субъекта, а не только мира».
2. Состояние видения может быть очень коротким, «мгновенным». Но это мгновение — вне горизонтального эмпирического времени в его «вертикальном разрезе»: «Если видение есть, то человек не может зафиксировать его в качестве такового — ему неоткуда получить о нем информацию. Волна-пилот: впереди ничего нет. То есть мы не знаем, где мы сейчас; не знаем прошлое, настоящее и будущее (в смысле течения и последовательности), а это и есть вечность. Ибо что
68
такое вечность, как не то, что в какое-то время не знать, где ты находишься? — К сожалению, это только мгновение и длится. Но это мгновение имеет больше теоретического значения для понимания жизни и истории ума, чем все другие наблюдения».
3. «Чтобы изучать природу (общество и тому подобное), ее надо сначала в каком-то смысле превратить в алфавит, в сообщение, адресованное нам на каком-то языке (алфавит которого нам известен). И потом… дать ему на себя подействовать. Мы посылаем туда, чтобы оттуда пришло воздействие. Иными словами, развитие идет организацией источника развития…»
«Закодированная возможность множественности есть гарантия против тупиков эволюции; в данный момент мы являемся частью, „телом" жизни какого-то сверхиндивида, монады — но мы в принципе не знаем, какого, наше дело — работать,а логичность есть лишь наша принципиальная неспособность видеть сейчас наш горизонт».
Необходимо научиться «однозначно и недвусмысленно формулировать и сообщать понятия и описания» того, что «в другом слое сообщается и распространяется иначе — неязыковыми способами и формами, передается и сообщается „единичностями", принадлежностью к ним или непринадлежностью…» Приходится делать перевод с одного языка на другой: «один, базовый в „том мире", другой, наслоившийся в евклидовом пространстве трех прилеганий».
Но опять же: никакой мистики, никаких упований на «посмертное существование». Тот мир — это наш мир, увиденный другими глазами: «Все решается здесь, мы ничему не служим, не являемся ступенькой ни к чему последующему, и независимость от последовательного целого здесь, на месте реализуем — вот бесконечность и непрерывность (это и вечность во мгновении), ибо это „все" есть многое всей природы».
«Стрела познания» — трактат о знании, но знание здесь — не информация, которую человек добывает, чтобы комфорт-
69
нее устроиться в мире. Знание — это способ существования мира (а точнее — локальных миров) через самосознание. Невозможно разделить сознание и бытие: события происходят1 не только в физическом пространстве и времени, но и в параллельном времени—пространстве смысла. Вопрос: «Что же происходит на самом деле?» — имеет значение только в континууме бытия—сознания. «Еще не случившаяся мысль живет во мне, и в этом все дело, а не в эволюции, предвосхищении, повторении или памяти. Это способ жизни мысли, а не эволюционная схема во времени. Это ее саморефлексивность, которая мне кажется эволюцией и развитием. Смысл, ищущий себя»(«Стрела познания»).
ФИЛОСОФСКИЕ МЕДИТАЦИИ
…Очевидно, не случайно сито истории устроено так, что многое оно отсеивает, но все, что должно было остаться, — остается. Все забытое — должно быть забыто, а все, что достойно памяти, — помнится. Ничего не пропадает…
М. Мамардашвили «Введение в философию»
«Философия начинается с удивления», — говорил Мераб Константинович своим студентам. Но это не удивление тому, что чего-то нет, — нет справедливости, нет мира, нет любви. Это удивление тому, что что-то есть. Нет.никаких причин для любви — а она есть. Все естественно стремится к хаосу, распаду — а в мире возникают островки порядка. И это чудо. В этом смысле чудо и то, что лекции Мамардашвили сохранились, не сгинули совершенно естественным образом. Ведь даже рукописи горят, что уж говорить о такой нестойкой материи, как живое слово. Где ему сохра-
70
ниться? В памяти благодарных учеников? Да, ходили на лекции толпами, впечатления — колоссальные: «Мы наблюдали чудо рождения мысли!» Но лекция заканчивалась, и оказывалось, что запомнилось из нее очень немногое. Как вспоминал один из его слушателей: «Это была пониматель-ная вспышка, которая каждый раз рождалась вокруг Мера-ба Константиновича. Полезность этой вспышки была необычайна, но она была краткосрочна, потому что энергия после выхода из этого пространства терялась».
Не стоит обвинять студентов в недостаточном умственном развитии: они слушали не лекции, на самом деле они слушали книгу — очень цельный, но сложнейшей структуры текст, объем которого удержать в памяти, наверное, выше человеческих сил.
А писал Мераб Константинович очень тяжело. Ссылался на лень и на Пруста, у которого тоже бывало что-то в этом роде: «…Пруст удивлялся тому, где люди находят веселую искру, приводящую человека в трудовое движение. Действительно, чтобы писать (ведь это физический труд, — например, написать 10 страниц, — это же надо конкретно написать), для этого нужна искра такая, радостная. Откуда люди ее находят? Мне лень, говорит Пруст. И его вполне можно понять» («Психологическая топология пути»). Шутка, конечно. Но и требование от себя совершенства — «чтобы не писать бездарные, никому не нужные книги». Поэтому свои письменные тексты Мамардашвили правил бесконечно, язык их считал ужасным, в итоге — бросал, не доделав, просто терял к ним интерес. На оформление «отработанного материала» жаль было времени: «Дело в том, что текст иногда как бы пробует себя на кончике пера, написанием его человек что-то в себе устанавливает — какой-то порождающий механизм движения или состояния мысли. И если такой механизм установлен, то текст не имеет значения. Его можно или не печатать, если он дописан, или вообще не дописывать» («Психологическая топология пути»).
71
Его «искрой» был собеседник, резонансное напряжение общения, может быть — глаза человека, к которому он обращался.– Что-то происходило при этом, какая-то алхимия раскаленной магмы смыслового пространства, которая рождала мысль — «событие мысли». А может быть, просто не хотелось говорить в пустоту — кому, на каком языке? Он знал их множество, но иногда кажется, что ни один не был ему родным. И вся его речь — перевод с неизвестного — на какой из многих? Нужен был конкретный адресат. Со студентами ему было интересно: он переводил им Пруста с неизвестного для них французского, проблемы сознания и бытия с неизвестного для них философского, разделы топологии судьбы — с неизвестного никому.
А то, что лекции сохранились, — чудо. Потребовавшее, впрочем, немало труда. Юрий Сенокосов вспоминал, как они с Мерабом ночами переписывали лекции с магнитофонной кассеты, потому что кассет мало, а утром надо снова идти в аудиторию.
Как бы то ни было, нам действительно повезло: именно лекционные курсы содержат разработанную версию прагматики сознания — механизма перехода человека в сознательный режим бытия.
О его лекциях можно сказать то же, что он сказал о Канте: «…Это раскручивание какой-то бесконечной, но одной ленты. Очень часто Кант делал один заход, второй, третий, и на третьем заходе понятней прописывалось то, что делалось в первом». Поэтому мы тоже возьмем его лекции как одну работу или один мир, весьма условно разделяя эту работу на главы.
72
* * *
Ибо только самому (и из собственного источника), независимо мысля и упражняясь в способности независимо спрашивать и различать, человеку удается открыть для себя философию…
М. Мамардашвили «Введение в философию»
Курс «Введение в философию» для Мамардашвили был очень важным: он считал, что пришло время заново продумать основы философии. Хотя бы в связи с разговорами о ее «смерти». Книга по материалам этого курса была составлена еще при его жизни, и в 86-м году он даже написал к ней «Предварительные замечания».
Что такое «введение»? Начало, пропедевтика, знакомство с чем-либо. Самая простая, казалось бы, вещь. Допустим, решили мы изучить какую-нибудь науку. С чего мы начнем? Попытаемся, наверное, определить, чем же она занимается, — выделим ее «предмет», затем ознакомимся с основными понятиями, с помощью которых она свой предмет описывает, с теориями, желательно последними, «правильнее всего» этот предмет трактующими. Войдем, так сказать, в курс дела. Но вот в философию так войти нельзя. Так что же мы изучаем, занимаясь философией?
Дело в том, что в философии нет раз и навсегда заданного предмета. Ее интересуют «предельные основания бытия», а этот предел все время смещается, в зависимости от того, что мы называем объективным (миром), а что включаем в понятие «субъект», и какую полагаем меж ними связь, Что такое сознание — объект или субъект? А это с какой точки посмотреть. Мы сдвигаем точку, меняется угол зрения, мир поворачивается новой гранью — заново устанавливается.
И еще: философия смотрит на мир как на целое. Но невозможно же увидеть что-то целиком, находясь внутри. Зна-
73
чит, мир как целое предполагает взгляд снаружи, с какой-то точки, которая находится за его пределами. Но такой точки не существует, из мира выскочить невозможно. А философия позволяет ее найти — с помощью техники трансцендирования.В философии есть, конечно, множество разных концепций, теорий, но это ее видимый, поверхностный слой. Суть же в другом: философия есть техника достижения определенного, вневременного и внепространствен-ного восприятия мира, через которое только и возможно его понимание. И если мы не научились входить в это состояние, то ни одну философскую теорию правильно не поймем. Точнее, поймем, но неправильно: как знание, измышление, логическую конструкцию, основанную на произволе автора.
На самом же деле, настоящая философская теория — это описание условий, при которых возможно постижение реальности, существующей вне наглядной формы и являющейся матрицей эмпирических состояний. А различными философские теории кажутся чаще всего из-за разного языка, который используют, разной расстановки акцентов.
Трансцендирование доступно не каждому: как минимум, трансцендирующее существо должно быть свободным. Свобода — условие сознания. Поэтому философия еще и техника самоконструирования человека как свободной сознательной личности. Ведь сознание вовсе не является неотъемлемым свойством человека. Можно всю жизнь прожить бессознательно и весьма комфортно (как овечка на выгоне). Это естественно, как естественна всякая животная жизнь. А вот появление человеческого в человеке — неестественно, сверхприродно, не вытекает из эмпирического опыта. Оно требует усилия, «собирания себя». Естественный человек ведь не способен воспринять полноту бытия: да некому ее воспринимать, не дергающейся же судорожно марионетке. Как вывести себя из состояния вечной зависимости, что может помочь сконцентрировать нестойкие, распадающиеся желания в реальную силу — это тоже вопрос философии.
74
Ну и конечно, философия — это особый язык.Он-то-(в отличие от философских проблем) довольно широко варьирует от системы к системе. Западная философия, например, использует понятийный аппарат древних греков, с логосом (словом) в основании всего. Индийская философия основывалась на изучении различных состояний человеческой психики — совершенно другой подход и, соответственно, терминология. Но вот задача везде ставится одна: выход на онтологическую реальность.
Ведь что такое философия вообще? Философия — это извлечение следствий из того компота, в который мы уже вляпались.
М. Мамардашвили «Картезианские размышлении»
Проще всего понять, что такое философия, наблюдая ее в действии. А что такое «философия в действии»? Это тексты человека, для которого философия стала жизнью. Например, тексты Декарта — «с трудом проделанная медитация, внутренним стержнем которой явилось преобразование себя, перерождение, или, как выражались древние: рождение нового человека в теле человека ветхого». Или тексты Канта, на которых лежит «отсвет незнаемого». И если мы попытаемся читать их, как написанное о нас, то, может быть, поймем что-то ив своей жизни, что до этого понять не могли.
Кант и Декарт были любимыми философами Мамардашвили. Две книги — «Картезианские размышления» и «Кантианские вариации» — посвящены именно им. Трудно придумать более несходные биографии: один — вояка, бретер, исколесивший пол-Европы (за 20 лет 30 перемен места жительства), другой — университетский профессор, «кенигс-бергский отшельник», не покидавший родной город больше чем на несколько дней. Какие «переклички» между ними
75
можно обнаружить? Рассказывая о путешествиях Декарта, Мамардашвили вдруг говорит странную фразу: «Декарт не имел биографии». Непонятно. Ладно, когда говорили такое о Канте, всю жизнь безвылазно просидевшем в Кенигсберге. Но Декарт, тот, кажется, мог бы стать героем приключенческого романа. Однако вот так. Истинная жизнь философа проходит в метафизическом измерении, и с этой точки зрения, его «земная» биография не имеет значения. «Весь мир — театр». (В трактате «О страстях», написанном для принцессы Элизабет, Декарт говорит ей: на нас могут обрушиваться разные несчастья, но в нашей власти рассматривать события собственной жизни с точки зрения вечности, «не иначе, как если бы мы так смотрели на них, как смотрят комедии»). И кто-то самозабвенно играет, а кому-то интереснее разгадывать правила игры.
Можно по-разному читать философские тексты. Мамардашвили читал их, как карту сферы сознания. В текстах Декарта и Канта он нашел подтверждение собственным размышлениям. И, воспользовавшись этими текстами как «интеллектуальной материей», вывел ряд постулатов и принципов познания как «сознательного эксперимента». Как попасть в ту «великую точку безразличия», в которой возможно неискаженное восприятие действительности?. Что мешает нам быть полностью сознательными, какими экранами сознания отгорожена от нас реальность? «Картезианские размышления» и «Кантианские вариации», по сути — описание техники трансцендирования.
76
ПУТЬ К СЕБЕ
…Воспроизведение акта жизни в следующий момент времени предполагает труд или работу извлечения порядка. В том числе извлечения смыслов, законов, сущностей, извлечения того, что со "мной происходит.
М. Мамардашвили «Психологическая топология пути»
Хорошо бы понять, как устроен мир, прочитав умную книжку. К сожалению, в соответствии с принципом трансцендентализма, это невозможно. Человек — «медленное» существо, и от знания чего-либо до внезапного понимания: «Так оно и есть!» — может пройти много времени. Человек — «долгое» существо, пробирающееся сквозь заросли чужих представлений к неведомой цели (счастью?), чтобы обнаружить в конце пути — если повезет, — что это был путь к себе. И что любой путь — это путь к себе. И что до себя можно и не дойти.
Этапы процесса понимания самого себя, преодоления ситуации «упрямой и приводящей в замешательство слепоты» описывает в своем «прустовском» цикле Мамардашвили. Основа цикла — анализ романа Пруста «В поисках утраченного времени». Он составил две книги — «Лекции о Прусте» и «Психологическую топологию пути».
«Лекции о Прусте» Мамардашвили посвятил женщине, которую любил и которую не видел к тому времени около 20 лет. «Те, кто знал его в те годы, говорят, что до встречи с Зельмой это был совершенно другой человек. Она сделала из него то, чем он стал. Она придала ему форму», — рассказывала Елена Немировская, жена Юрия Сенокосова. Может быть. По крайней мере, она «организовала» ему встречу с реальностью. «В 1970 году она решила с семьей эмигрировать в Израиль. Попросила Эрика Неизвестного
77
сказать об этом Мерабу, когда она уже уедет. Эрик пришел к Мерабу домой и сказал. Мераб как сидел за столом, так, ничего не сказав, и остался сидеть. Эрик через какое-то время ушел. Потом через несколько часов спохватился, вернулся. Мераб сидит в том же положении, как он его оставил. Так он просидел несколько дней, ни с кем не общаясь».
Тема реальности и не желающей с ней считаться «упрямой слепоты» — стержень не только прустовского цикла: «…Могу признаться, что одним из моих переживаний (из-за которых я, может быть, и стал заниматься философией) было именно это переживание — совершенно непонятной, приводящей меня в растерянность слепоты людей пред тем, что есть» («Психологическая топология пути»).
Ситуацию слепоты Мамардашвили называет «ситуацией стеклянных перегородок»: мы живем, как рыбы, в аквариуме, но стенок его не замечаем. Мы пытаемся жить в мире, которого на самом деле не существует, мире, «который устроен так, в котором я знаю, что будет, или я ожидаю, что если я сделаю то-то, то будет то-то и то-то». В мире ожиданий.Но реальность — всегда другая, и действует не по законам наших желаний. Если мы пытаемся ее не замечать, она врывается в жизнь подобно руке, вынимающей рыбу из воды.
Есть законы слепоты и есть законы прозрения. Для того чтобы восстановить реальность, породить истину, необходимо собрать вместе разрозненные части информации, найти их смысл. Это делается силой формы, говорит Мамардашвили, созданием порождающей конструкции, которую условно можно назвать текстом. Таким текстом, например, может быть роман: «…В действительности написание литературного текста не есть занятие, отдельное от жизни: само построение какой-то условной, воображаемой конструкции впервые придает логику тому, что ты раздельно видел в своей жизни». То есть текст — это не то, что читают, а то, чем читают, — искусственный орган, увеличивающий разрешающую способность зрения. Орган искусства.
78
Значит, необходимо создать текст (своего рода ящик резонанса), выявить форму бесформенного, и тогда части действительности встанут на свои места. Но это не просто ящик, в котором мы расположили «вынутые» воспоминания по какой-то линии. Это зеркало, поставленное перед жизненным путем, по отражениям в котором этот путь исправляется: различные впечатления резонируют между собой, «перекликаются» — выявляют упакованный в них смысл. Это работа с прошлым, с памятью — перепросмотр жизни.
Просматривая свою жизнь, мы обнаруживаем, что абсолютные пространство и время есть только представления, химеры. Некоторые части нашего актуального сознания действуют так, как будто находятся в собственных «пространство-временах», а какие-то события, происходившие с интервалом в годы, в нашем сознании сливаются в одно. Следовательно, «фактическая последовательность приводимых в резонанс состояний не имеет значения. Мы от нее не зависим».
Нужно пытаться разгадать, какие символические фигуры складываются из наших впечатлений, — и они заговорят. Тогда конечное человеческое существо становится способным вырваться из-под власти сумбурного ряда эмпирических событий и перейти в вертикальное измерение времени — взглянуть на мир со стороны бесконечности. Это стремление и делает человека человеком.
К проблеме произведения искусства (текста) как порождающей человека формы Мамардашвили возвращается в своем последнем лекционном курсе — «Эстетике мышления».
Форма— это не что-то абсолютно идеальное, но и не полностью материальное: это то, что позволяет размазанным, неясно ощущаемым, неартикупируемым движениям мысли воплотиться — обрести плоть. «Чем Христос отличается от Антихриста?» — спрашивает Мамардашвили. Тем, что Антихрист абсолютно идеален. Он — отрицание того,
79
что совершенство может воплотиться в конкретной форме, то есть в живой плоти. Бесконечные мечты об идеальном, никогда не воплощаемые в реальность, — болезнь культуры, в том числе и русской.
В жизни всевозможные «высокие идеалы» приходится претворять в конечной форме, ведь и сам человек не бессмертен, он — конечная форма. И, может быть, смысл человеческой жизни — увидеть сквозь хаос дурной бесконечности другие, вне человека существующие формы и понять их значение.
Форма для Мамардашвили — это не что-то статичное, это ритм, динамическая пульсация, точка, где перекрещиваются свобода и необходимость.
Свобода — потому что почувствовать, воспринять этот ритм можно только в точке личного мужества, в которой отбрасываются все заранее навязанные представления («волна-пилот», ни впереди, ни позади которой ничего нет); а это — личностный акт, и его никто не может заставить совершить, как «нельзя заставить подумать».
Необходимость — потому что вибрации этой формы создают из «размазанного» во времени человеческого существа человека символического, «полного», «собранного» вот этой формой.
Увидеть за, казалось бы, случайно происходящими событиями какую-то форму (закон) — значит, извлечь опыт из пережитого. Мамардашвили вводит принцип телескопа: нужно пытаться видеть то, что видишь, как элемент формы или закона. Но мы видим только то, что ожидаем увидеть, а значит, для того, чтобы что-то пережить в эмпирическом смысле, необходимо понимать, что происходит. Логический круг.
Как же увидеть структуру за теми фактами, которые повторяются в нашей жизни? Ведь невозможно охватить взглядом целое, пока оно не завершено, пройти все точки пути, уходящего в бесконечность. Значит, должна быть фор-
80
ма актуализации того, что не поддается прохождению, — считает Мамардашвили, — форма извлечения осмысленного опыта, с помощью которой можно знать что-то истинно, не зная всего.
Символ и является одной из таких форм: он абсолютно тотален, то есть полностью изменяет восприятие действительности, позволяя увидеть за хаосом не связанных между собой элементов структуру реальности.
Процедура воздействия на нас символической реальности проста: в поле символа человек входит через впечатления. Те впечатления, которые тревожат, заставляют снова и снова к себе возвращаться, потому что несут какую-то скрытую информацию о нас, являются загадкой, ответ на которую находится «не здесь». Любое впечатление воспринимается как событие, смысл которого остается для человека тайной. Иногда разгадывать эту тайну приходится в течение всей жизни.
В общем-то, не имеет значения, понимает человек или нет, какие символы формируют его жизнь. Но если ему интересно, он вполне способен это понять: в соответствии с принципом голограммы, вся информация у него есть. Его мыслительный аппарат должен только расшифровать, какой символ скрывается затем или иным впечатлением, и извлечь опыт, то есть выявить манифестируемую символом структуру жизни.
Реального времени для этого может быть недостаточно: какие-то важные для понимания структуры жизни впечатления могут просто не успеть появиться. Значит, время каким-то образом нужно сделать более насыщенным, плотным. Уплотнением времени занимается, например, искусство. «Искусство — это создание конструкций, способных генерировать в нас какие-то состояния, выводящие за рамки горизонта возможного, и только через эти структуры мы способны увидеть реальность, закрытую экраном кажущейся жизни и нашей психологии». В пространстве романа мы
81
проживаем множество жизней, каждая из которых — «невозможная возможность». Таким образом мы «добираем» необходимые впечатления — и через художественное произведение человек начинает понимать самого себя.
СТРАНА-ПОДРОСТОК, СТРАНА-ЛИТЕРАТУРА, СТРАНА-ПРИВИДЕНИЕ…
Только и слышишь теперь о терпимости, и все это похоже скорее на нечто, что должно служить очередным лозунгом: «Превратим наш бордель в дом терпимости!»
М. Мамардашвили Записи в ежедневнике (середина 80-х)
В 1985 году Генеральным секретарем коммунистической партии СССР стал Михаил Горбачев. Первое лицо государства горело идеей реформации социализма. Хитом сезона стал лозунг: «Перестройка, ускорение, гласность!» Железный занавес пал. Мыслящее человечество ликовало. Под бурные, переходящие в овации аплодисменты всего мира Советский Союз, чудовищно ускоряясь, летел навстречу неизвестности.
Мало кто предполагал тогда, что перестройка обернется развалом, что впереди — годы разрухи, и 15 республик — 15 сестер — превратятся в подозрительных и недружелюбных соседей. А пока один за другим проваливались экономические эксперименты, гласность — гласность пьянила, как вино. Все, о чем перешептывались, чего просто не знали и чего боялись, — выплеснулось в пространство публичной речи. Слово казалось невообразимой магической силой: крикнем «Свобода!» — и настанет свобода, восклик-
82
нем «Истина!» — и будем в истине. Где уж среди буйства чувств прислушиваться к голосу разума.
«Мы не хотим задумываться над тем, где на самом деле находимся и чем располагаем, мы не желаем понимать, что тоненький слой цивилизованности наращивается годами тяжелой работы, — повторял Мамардашвили почти в каждом своем выступлении, — но если мы не поймем это — мы обречены».
В 88-м он пишет статью «Сознание и цивилизация»—
об опасности «антропологической катастрофы» и принципе существования человека в культуре, «принципе трех „К"— Картезия (Декарта), Канта и Кафки».
Человек — существо парадоксальное, стремящееся к выходу за рамки удовлетворения сиюминутных потребностей. Человек — существо, нуждающееся в смысле. Но вся проблема человеческого бытия состоит в том, что каждую жизненную ситуацию нужно еще превращать в осмысленную ситуацию. Сама по себе, без участия человеческой воли, окружающая действительность осмысленной не является. Более того, может сложиться так, что человек окажется в агрессивно бессмысленной ситуации — ситуации абсурда.
Принцип трех «К» задает необходимые условия для понимания человеком самого себя и своего существования в мире, либо для осознания невозможности этого понимания.
Первое «К» (Декарт) расшифровывается так: «Я есть», или: «Я мыслю, я существую, я могу». То есть мир устроен таким образом, что в нем всегда есть место для «меня» и «моего личного действия», каковы бы ни были видимые обстоятельства. Если первое «К» не реализуется, оно превращается в свою противоположность: «Только яне могу» («могут» все остальные: другие люди, обстоятельства, Бог). Невыполненный принцип Декарта характеризует человека, у которого во всем всегда виноват кто-то другой.
Второе «К» (Кант) :в устройстве мира есть особые образы целостности (синтеза) — идеальные объекты, при-
83
дающие смысл нашему познанию, оценкам, моральному действию, особая материя внутреннего знания и ориентированности конечных живых существ в бесконечном пространстве. Абсолютные ценности, которые являются идеальными формами для реальных человеческих действий. (То есть именно существование таких ценностей, как, например, долг, истина, любовь, делает возможным следование долгу в каком-то конкретном случае, или поиск истины, или чувство любви. Если в каком-то обществе истина не абсолютная ценность, а, скажем, относительная, то в этом обществе вообще невозможно отличить истину от лжи.)
' Два первых принципа характеризуют человека разумного и действуют в единстве. Это означает, что в мире дополнительно к мыслящему и действующему «Я» должны реализоваться условия, при которых мышление и действие имеют смысл. Но могут и не реализоваться.
Когда эти принципы не реализуются, в силу вступает третье «К» (Кафка), которое характеризует «ситуации со странностями», «неописуемые». Внешне они почти не отличаются от «нормальных» — те же предметы, те же слова, те же действия. Все то же самое, как отражение в зеркале. Единственное отличие — первые два принципа здесь не выполняются. Не происходит действительной реализации идеальных форм. Нет ни осмысленности, ни ответственности, а значит, нет оснований для различения добра и зла, истины и лжи. Это мир, где все лгут и при этом постоянно друг другу подмигивают: «Мы-то с вами знаем, где правда». Мир теней, сцепившихся в абсурдный механизм событий, где всегда уже поздно что-либо предпринимать, потому что, как бы ты ни поступил, ты всегда будешь поступать по логике абсурда.
Казалось бы, что с того, что заведомую ложь называют истиной, ведь всем понятно, что истиной она от этого не становится. Однако при этом само слово «истина» теряет всякий смысл — оно уже ничего не обозначает. И, называя так же действительную истину, мы пользуемся мертвым сло-
84
вом. Истина становится неотличимой от лжи. Значит, в мире, где все лгут, слова перестают что-то значить — язык умирает, и истину им выразить уже невозможно. «Уже поздно», — как говорит Мамардашвили. Уже поздно вспоминать о законности («качать права») в государстве, где закон изначально не имеет никакой силы. Уже поздно взывать к милосердию на войне.
Жизнь человека может быть счастливой или несчастной, и часто это от него не зависит. Но вот осмысленной или абсурдной он делает ее сам — с помощью второй сигнальной системы. Еще Конфуций считал, что управление государством нужно начинать с «исправления имен» — каждое имя должно соответствовать своему предмету. И если «называть вещи своими именами» не задача философии, то, как минимум, ее основание.
Мысль должна замкнуться, как замыкается круг жизни. Поступок раз и навсегда.
М. Мамардашвили «Грузия вблизи и на расстоянии»
Империя рушилась. Что-то сломалось в самой ее сердцевине, и некогда единый организм стремительно разваливался на части. Попытки метрополии контролировать ситуацию лишь приближали конец: кровавые разгоны демонстраций в В'ильнюсе, Риге, Тбилиси сделали развал Союза неизбежным.
Грузия требовала независимости. Грузию опьяняло ощущение свободы. Из камерного академически-универ.-ситетского мира Мамардашвили выбросило в пространство демонстраций и митингов, в раскаленную, вулканическую стихию разрушения. Это было искушение политикой. Зачем он ему поддался? Ведь сам говорил студентам: политика и философия живут на разных этажах, «есть вещи более серьезные и имеющие большие политические по-
85
следствия, чем сама политика». Вдруг показалось, что он нужен, что его слышат?
Грузия, «невозможная любовь», поманила его и отвергла. Как будто на роду ему было написано жизнью подтверждать собственные философские тезисы: «В область того, что не фактами рождено, факты не проникают».
«Не наступило ли время преодолеть митинговую истерию, выбрать одно божество: мысль, достоинство и великодушие человека, который уверен в своей внутренней силе и твердости…» Но Грузия не слышит, она в другом пространстве и времени. «…Сила может быть лишь в одном: включиться своим трудом и духом в те точки, которые определяют уровень и условия нашей жизни», «…эмоции — это еще не здравый смысл и не реальность. Грузины пережили времена похуже, и когда дан шанс для ума нации, дело не кончится трагически. В грузинском народе сильны отложения здравого смысла…» («Грузия вблизи и на расстоянии»).
Пытаться укротить истерию, когда она набирает обороты, взывать к разуму урагана — что это, с точки зрения здравого смысла? И как же закон неразрушимости идеологии, им открытый? Зачем дразнить беснующуюся толпу: «Истина — выше родины», «Если мой народ выберет Гамсахурдиа, тогда мне придется пойти против собственного народа». Народ орал Мамардашвили: «Ты не грузин!» Народ на руках нес Гамсахурдиа в Верховный совет. Народ, повинуясь новому капризу, сбросил Гамсахурдиа через год после того, как выбрал его президентом.
«Не мое это дело, не дело философа заниматься политикой. Но я не могу смотреть в глаза молодым, я не могу видеть их вопрошающие взгляды: „Где ты, Мераб, и как нам быть?"» Мысль — это не слова, мысль — это поступок. Для нее нужны «яростная героическая страсть», героический ^энтузиазм, в котором «человек стоит один на один с миром, не имея вне себя никаких внешних опор. А если имеет ка-
86
кую-нибудь опору, то только внутри себя». И нужно всегда быть готовым к тому, что «любой момент времени может быть последним часом — которым нужно кончать свою историю. Кончать свой опыт. И поступать» («Психологическая топология пути»).
Он умер в аэропорту Внуково в Москве, возвращаясь на родину после трехмесячной поездки с лекциями по США. Был ноябрь 90-го. В октябре Звиада Гамсахурдиа триумфально избрали на пост Председателя Верховного совета, и он принялся расправляться со своими врагами. Друзья предупреждали Мамардашвили: в Грузии опасно. Но разве можно было его остановить, когда он ехал домой? До Грузии он не доехал. Среди попутчиков нашлись звиадисты, которые стали вопить: «Враг Гамсахурдиа — враг Грузии», размахивать кулаками, отталкивать его от трапа самолета. Он молчал. Потом развернулся и пошел через летное поле. Потом упал — сердце не выдержало, третий инфаркт.
Он сказал бы о своей смерти: «Случайность». Делай, что должен, и будь, что будет.
«Ничто не избавит нас от боли и страдания — и непоправимого. И ничто не убьет радость, не растворит ее сладко-тоскливую и гордую, кристально звонкую ноту. Ибо радость и сострадание — две стороны одного… Я понял смысл грузинской трагедии. Если тяжел, серьезен — еще не свободен. Торжествующий полет птицы — вопреки всему. Настолько несоразмерный водоворот, что смешно. А человеку невыносимо быть смешным. Чудо — за пределами отчаяния. В другой новой жизни. Комедия невозможной трагедии. Мир не прекрасен, и не моя серьезность его спасет. Фило7 софия должна реконструировать то, что есть, и оправдать это» («Лекции о Прусте»).
ИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЙ М. К. МАМАРДАШВИЛИ
Если мы хотим, чтобы что-то окупалось, то мы вообще находимся вне области морали и вне области человеческой духовности. Так устроено. В фундаменте наших моральных духовных оценок заложено, что там, где что-то полезно, мы вообще — вне области духовной жизни и вне области нравственности. Добро по определению исчерпывается самим собой. Только вот держать добро, которое исчерпывается самим собой и самим собой объясняется, и самим собой обосновывается, очень трудно. Почти что невозможно человеку. А вот зынести одиночество — что ты мо– –жешь, какое бы ни было время, каким бы ни было общество, — «ты можешь» я расшифрую так: что бы ни было, всегда могу. Всегда есть время, когда я могу. Нет неподходящего времени.
(«Психологическая топология пути»)
В героическом искусстве человеческая жизнь, и духовная, и нравственная, и социальная, как бы протекает по вертикали. А не по горизонтали. Горизонталь идет в непрерывном движении последовательности. Есть бег времени. Время бежит и движется по линии. Вы знаете, что время одномерно (в отличие от пространства, которое трехмерно, по меньшей мере). И в этом времени считается, что есть время жизни и есть время смерти. Или — есть время этого мира, а есть время другого мира. Ну, скажем, лучшего мира. Или царства Божьего. Евангелие и героическое искусство (или героическое сознание) считает, что царство Божье — по вертикали к теперешнему миру. Оно просекает его в любой момент. И мы не отделены, если повторить слова Чаадаева, от другой жизни, более истинной, лучшей и т. д., загробной, так сказать, жизни, мы не отделены от этого лопатой гробовщика. Она не потом наступает. Она — по вертикали. Она — срез другой нашей духовной жизни. И слова «потом», «загробной», «лучшей», «совершенствование», «возвышение», «бессмертие» — это слова, которыми мы беспомощно и неловко пытаемся обозначить некоторые свойства своего же собственного бытия. А эти свойства за этими словами нужно уметь читать. И не воспринимать слова буквально.
(«Психологическая топология пути»)
…Один человек может держать мысль, а другой нет, и, значит, «эта мысль» может быть опасна для него, ее передавать ему
88
нельзя. Так что вовсе не случайно символом мысли в свое время стал Прометей, огонь, которого приковали к скале боги. Да и сами люди уже давно и весьма успешно приковывают таких носителей мысли к скалам или крестам, взяв на себя миссию богов. В этом смысле философ или мыслитель есть граничное существо, представитель того, что нельзя выразить.
(«Эстетика мышления»)
Представьте себе, что у вас отрешенное ясное сознание, ностальгия по какому-то потерянному раю, которого никогда не было; отрешенность от всякого вашего окружения, от места рождения, от людей, вещей, от всяких обстоятельств вашей жизни. Конечно, такого человека очень часто охватывает страх, поскольку он заглядывает в бездну и чувствует, что принадлежит другой родине, но родине неизвестной, это какая-то пропасть, ясное присутствие тайны. Таинственно и ясно.
Это страх перед акмэ, страх не сбыться, не осуществиться. Сущность его в ощущении тоски, когда мы чувствуем, что наши эмпирически испытываемые состояния недостаточны, сами не могут служить основанием, что для осуществления себя нет готового налаженного механизма, который срабатывал бы без нашего участия, без того, чтобы я сам прошел какой-то путь. Именно в этот момент, в этой точке, с одной стороны, мы подвешены в пустоте над зияющей пропастью неизвестной нам родины, которая нам ближе, чем реальный, но инородный мир, а с другой — ощущаем полное отсутствие естественного механизма реализации. И философские проблемы, проблемы мысли возникают именно здесь, в этом зазоре.
(«Эстетика мышления»)
Он (Декарт) и провел через всю свою философию одну странную, на первый взгляд, вещь, которая одновременно является онтологическим постулатом: тот, кто сможет в воодушевлении обнаженного момента истины, в этом стоянии один на один с миром хорошей: ко расспросить себя (что едва ли или почти невозможно), тот опишет всю Вселенную. Не в том смысле, что человек, как он есть эмпирически, — это Вселенная, а в том смысле, что если ты сможешь что-то в себе выспросить до конца, и у тебя хватит мужества, веря только этому, раскрутить это до последней ясности, то ты вытащишь и весь мир, как он есть на самом деле, и увидишь, какое место в его космическом целом действительно отведено предметам наших стремлений и восприятий. Повторяю,
89
опишет Вселенную тот, кто сможет расспросить и описать себя. Вот— Париж, справлюсь ли с ним, как говорит бальзаковский герой.
(«Картезианские размышления»)
Я говорил, что опыт принятия мира есть опыт свободы, опыт сверхъестественного внутреннего воздействия и т. д., и есть, следовательно, опыт независимого мира, который мы лишь принимаем, не зная. Вот почему для нас была важна область, условно названная нами областью откровенного. Этот опыт независимого мира, который мы несомненно имеем, имеем в феномене свободы, нравственности, где нет смены состояний, или опыт вещи в себе, опыт независимого мира (что одно и то же), который просвечивает в нас через тавтологию или умозаключения разума, или через то, что мы знаем априорно, независимо от факта. Это знание (или это знаемое) содержит в себе элемент незнаемого, которое мы принимаем как данность, оно содержит в себе метафизический элемент, если понимать метафизику в буквальном значении, то есть как нечто, что следует за физикой, в смысле такого элемента, который неразрешим в терминах этого мира, и в котором мы определились в зависимости от нашего пространства, а не какого-либо другого, инородного ему. Мы определились в этом мире, и самим фактом или актом определимости возникли вопросы, на которые мы ответить не можем, но осознать их можем. Это осознание, так же как осознание свободы и совести, есть фиксация опыта, опыта независимого мира в отличие от опыта зависимого.
(«Кантианские вариации»)
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА
1930, 15 сентября — в Грузии, в городе Гори, родился Мераб Константинович Мамардашвили.
1934 — семья Мамардашвили переезжает в Россию: отца Мера-ба, Константина Николаевича, направляют на учебу в Ленинградскую военно-политическую академию.
1938 — окончание К. Н. Мамардашвили академии. Переезд семьи Мамардашвили в Киев, а затем в Винницу. 6 Виннице Мераб идет в первый класс.
1941 — начало Великой Отечественной войны. К. Н. Мамардашвили уходит на фронт. Мераб с матерью, Ксенией Плато-новной Гарсеванишвили, возвращаются в Грузию, в Тбилиси. Учеба в14-й средней школе города Тбилиси.
1949 — окончание школы с золотой медалью. Поступление на философский факультет Московского университета. Знакомство и начало дружбы с Эрнстом Неизвестным, впоследствии знаменитым скульптором.
1949-1954– учеба в МГУ.
1953, сентябрь— защита Э. В, Ильенковым диссертации «Диалектика абстрактного и конкретного в „Капитале"».
1954, май — дискуссия по «Гносеологическим тезисам» Ильенкова и Коровикова. Окончательное формирование кружка «диалектических станковистов* (А. А. Зиновьев, Б. А. Гру-шин, Г. П. Щедровицкий, М. К, Мамардашвили). Защита дипломной работы «Проблема исторического и логического в „Капитале" Маркса». 1954—1957 — учеба в аспирантуре МГУ, рождение дочери.
1955, апрель — проверка преподавания общественных наук и идейно-воспитательной работы на философском факультете МГУ Отделом науки и культуры ЦК КПСС. Разгром «гносеологов».
1957 — окончание аспирантуры, начало работы в редакции журнала «вопросы философии».
1958 — выход первой статьи «Процессы анализа и синтеза».
1961—1966 — работа в Праге в редакции журнала «Проблемы мира и социализма» заведующим отделом критики и библиографии. Посещение Италии и Франции.
1962 — защита в Москве кандидатской диссертации «К критике гегелевского учения о формах познания».
1968-1974— работа в журнале «Вопросы философии» в должности заместителя главного редактора И. Т.Фролова.
1968 — выход первой монографии «Формы и содержание мышления(Ккритике гегелевского учения о формах мыш-
91
ления)».Статья«Анализ сознания в работах Маркса».Начало дружбы с Юрием Петровичем Сенокосовым и Александром Моисеевичем Пятигорским.
1970 —защита в Тбилиси докторской диссертации «Формы и содержание мышления». Смерть отца от инфаркта.
1971 —« Три беседы по метатеории сознания: Краткое введение
в учение виджнянавады» (в соавторстве с Пятигорским).
1972 —получение звания профессора.
1973—1974—работа с Пятигорским над «Символом и сознанием». Книга опубликована в Иерусалиме в 1982году. В 1974 году Пятигорский эмигрировал в Лондон.
1975—1980— чтение лекций в Москве(психологический факультет МГУ, ВГИК, Высшие режиссерские курсы), в Риге. Работа в Институте истории естествознания и техники АН СССР.
1977—создание рукописи«Набросок естественно-исторической гносеологии», впоследствии названной «Стрела познания».
1979—1980—лекции по античной философии (ВГИК).
1978—1980—курсы лекций: Введение в философию; Современная европейская философия: XXвек (ВГИК).
1979 —курс лекций по философии познания (Рига).
1980 —переезд в Тбилиси по приглашению директора Института философии АН Грузии академика Нико Чавчавадзе, работа в институте в должности главного научного сотрудника (до1990года).
1981—1982—лекции в Москве в Институте общей и педагогической психологии АПН СССР для аспирантов ИОПП и ВНИИ технической эстетики по философии Декарта («Картезианские размышления») и Канта («Кантианские вариации»). Курс по Прусту («Лекции о Прусте»)вТбилисском университете. Госкомитетом по науке и технике СССР и Совмином создан Межведомственный совет по проблеме «Сознание», в семинарах и школах которого участвовал Мамардашвили.
1983 —доклад на II Всесоюзной школе по проблемам сознания
(«Классический и неклассический идеал рациональности»).
1984 —выход в Тбилиси книги «Классический и неклассический идеал рациональности». Чтение в Тбилисском университете второго цикла лекций о Прусте («Психологическая топология пути»).
1985 —доклад на III Всесоюзной школе(«Сознание и цивилизация»).
92
1986 —курс лекций по эстетике мышления(«Эстетика мышления») в Тбилисском университете.
1987 —первый после 20-летнего перерыва выезд за рубеж, в Италию. Доклад на IV Всесоюзной школе по проблеме сознания.
1987—1990— активное участие в политической жизни Грузии. Выступления против национализма и экстремизма Гамсахурдиа.
1988 —участие в конференции «Человек Европы» в Париже, в Дортмундской конференции в США.1989, апрель—перенес инфаркт.
1989, ноябрь—чтение лекций в Париже.
1990—участие в Кавказско-Среднеазиатской конференции в Лондоне. Лекционное турне по США.
1990, 25 ноября— М.К.Мамардашвили умер от инфаркта в аэропорту Внуково в Москве, при возвращении на родину. Похоронен в Тбилиси, рядом с могилой отца.
2001, 26 мая— в День независимости Грузии, в Тбилиси на проспекте Шота Руставели философу Мерабу Мамардашвили установлен памятник работы Эрнста Неизвестного.
ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ М. К. МАМАРДАШВИЛИ
Процессы анализа и синтеза/IВопр.философии.1958.№2.
Некоторые вопросы исследования истории философии как истории познания IIВопр.философии.1959.№12.
Исторический метод в «Истории философии» Гегеля IIВести,историимировойкультуры.1960.№3.
К проблеме метода истории философии: (Критика исходных принципов историко-философской концепции К. Ясперса) IIВопр.философии.1965.№6.
Анализ сознания в работах Маркса IIВопр.философии.1968.№6.
Формы и содержание мышления(Ккритике гегелевского учения о формах познания).М.:Высш.школа,1968.
Три беседы по метатеории сознания: Краткое введение в учение виджнянавадыIIТрудыпознаковымсистемам.Тарту,1971.Т.5.(Учен.зап./Тартус.ун-т.Вып.289).СобеседникА.М.Пятигорский.
93
Классика и современность: Две эпохи в развитии буржуазной философии / М. К. Мамардашвили, Э. Ю. Соловьев, В. С. Швырев // Философия в современном мире: Философия и наука: Крит, очерки буржуазной философии. М., 1972.
Наука и ценности — бесконечное и конечное. // Вопр. философии. 1973. № 8.
Обязательность формы. // Вопр. философии. 1976. hfe 12.
Проблема объективного метода в психологии / В. П. Зин-ченко, М. К. Мамардашвили // Вопр. философии. 1977. № 7.
Символ и сознание (метафизические рассуждения о сознании, символике и языке) / Соавт. А. М. Пятигорский. Иерусалим, 1982.
Классический и неклассический идеалы рациональности. Тбилиси, 1984.
Проблема сознания и философское призвание И Вопр. философии. 1988. № 8.
Сознание и цивилизация II Природа. 1988. Ns 11.
Философия— это сознание вслух! Юность. 1988. № 12.
«Дьявол играет нами, когда мы не мыслим точно…»1 Театр. 1989. № 3.
Мысль в культуре I/ Филос. науки. 1989. Ш 11.
Сознание — это парадоксальность, к которой невозможно привыкнуть: Интервью // Вопр. философии. 1989. № 7.
Сознание как философская проблема II Вопр. философии. 1990. № 10.
Беседы о мышлении II «Мысль изреченная…»: Сб. науч. ст. М., 1991.
Жизнь шпиона: Интервью // Искусство кино. 1991. № 5. Как я понимаю философию. М., 1992.
Мысль под запретом. (Беседы с А. Э. Эпельбуэн); Пер. с фр. // Вопр. философии. 1992. № 4—5.
Современная европейская философия.XXвек. // Логос. 1992. № 2.
Картезианские размышления. М., 1993.
К пространственно-временной феноменологии событий знания!/ Вопр. философии. 1994. № 1.
Философия и личность/I Человек. 1994. № 5.
Лекции о Прусте (Психологическая топология пути). М., 1995.
Необходимость себя: Введение в философию. М., 1996.
94
Стрела познания: Набросок естественно-исторической гносеологии.М.,1996.
Кантианские вариации.М.,1997.
Психологическая топология пути: М. Пруст «В поисках утраченного времени».СПб.,1997.
Неизбежность мысли IIЧеловек.1999.№1.
Природа мысли IIЧеловек.1999.№2.
Мой опыт нетипичен.СПб.,2000.
Эстетика мышления.М.,2000.
Лекции по античной философии.М.,1999.
ЛИТЕРАТУРА
Сенокосов Ю. П.Мераб Мамардашвили: вехи творчества//Вопросыфилософии.2000.№12.
Конгениальность мысли.О философе Мерабе Мамардашвили.М.,1994.
Встреча с Декартом. Философские чтения,посвященныеМ.К.Мамардашвили.М.,1996.
Конев В. А.Семинарские беседы по «Картезианскимразмышлениям»М.К. Мамардашвили.Самара,1996.
Зинченко Г.Посох Мандельштама и трубка Мамардашвили. К началам органической психологии.М.,1997.
Произведенное и названное:Философскиечтения,посвященные М.К.Мамардашвили. М.,1998.
Исаев А.А Онтология мысли: введение в философию М.К.Мамардашвили.Сургут,1999.
СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………………….3
СИНЕЕ НЕБО НАД ГОРИ………………………………………………………………6
Как стать философом? (Отступление первое)…………………………..9
УНИВЕРСИТЕТ…………………………………………………………………………..12
Соответствия и переклички (Отступление второе)……………………20
«МОЙ ОПЫТ НЕТИПИЧЕН»…………………………………………………………27
«ДЬЯВОЛ ИГРАЕТ НАМИ,
КОГДА МЫ НЕ МЫСЛИМ ТОЧНО»………………………………………………29
«ПРЕВРАЩЕННЫЕ ФОРМЫ»……………………………………………………..32
«ПОСТАВИТЬ СЕБЯ НА КРАЙ…»………………………………………………..36
СКВОЗЬ ТЬМУ………………………………………………………………………….49
Как читать философские тексты? (Отступление третье)……………53
Зачем знать философский язык?…………………………………………..56
«СТРЕЛА ПОЗНАНИЯ»………………………………………………………………65
ФИЛОСОФСКИЕ МЕДИТАЦИИ……………………………………………………70
ПУТЬ К СЕБЕ……………………………………………………………………………77
СТРАНА-ПОДРОСТОК, СТРАНА-ЛИТЕРАТУРА,
СТРАНА-ПРИВИДЕНИЕ…………………………………………………………….82
ИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЙ М. К. МАМАРДАШВИЛИ………………………………88
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВА……………………………….91
ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
М. К. МАМАРДАШВИЛИ…………………………………………………………….93
ЛИТЕРАТУРА………………………………………………………………………….95
НИЦШЕ
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "ПОЛ СТРЕТЕРН «20 философов за 90 минут»"
Книги похожие на "ПОЛ СТРЕТЕРН «20 философов за 90 минут»" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о " dm - ПОЛ СТРЕТЕРН «20 философов за 90 минут»"
Отзывы читателей о книге "ПОЛ СТРЕТЕРН «20 философов за 90 минут»", комментарии и мнения людей о произведении.