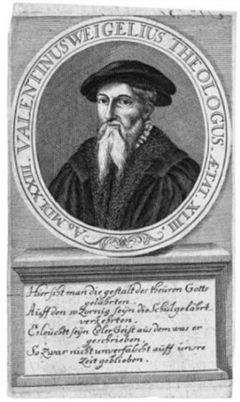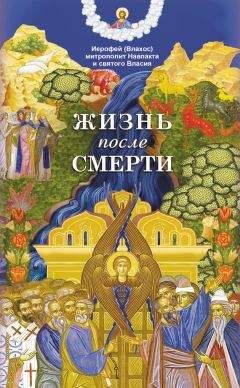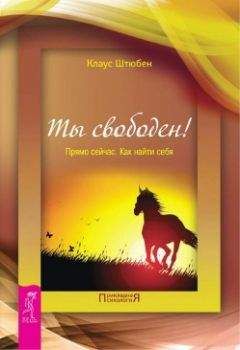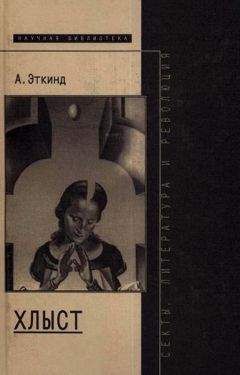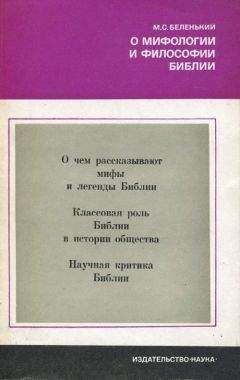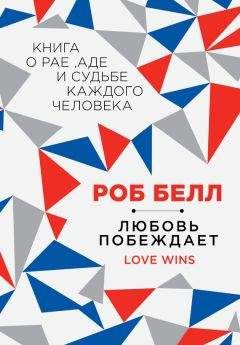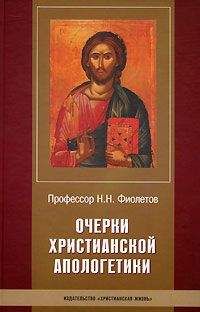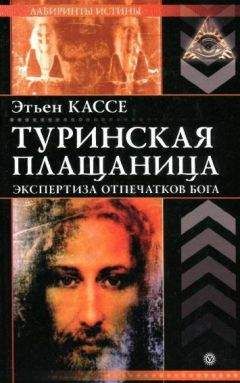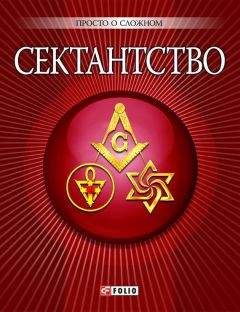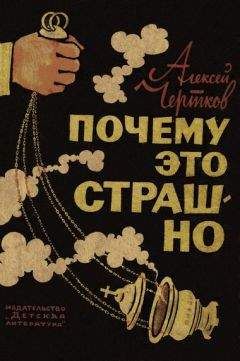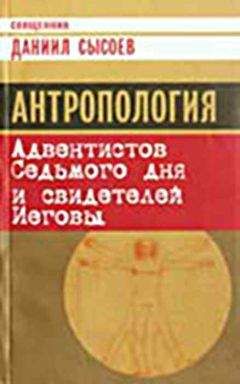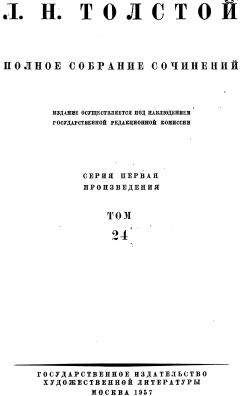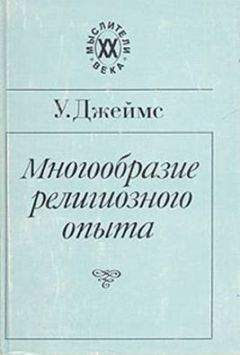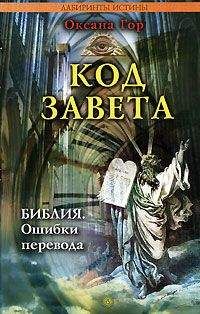Лев Толстой - ПСС. Том 24. Произведения 1880-1884 гг.
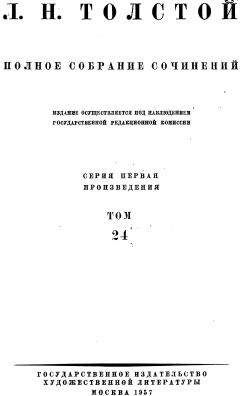
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "ПСС. Том 24. Произведения 1880-1884 гг."
Описание и краткое содержание "ПСС. Том 24. Произведения 1880-1884 гг." читать бесплатно онлайн.
«Это сочинение — обзор богословия и разбор Евангелий — есть лучшее произведение моей мысли, есть та одна книга, которую (как говорят) человек пишет во всю свою жизнь. Я имею на это свидетельство двух ученых и тонких критиков, обоих несогласных со мною в убеждениях. Оба, всегда прямо говорившие мне правду, признали сочинение неопровержимым.»
«Но, несмотря на все усилия толпы, избранные люди, сквозь всю грязь лжи, видят истину и проносят ее во всей чистоте чрез века и усилия лжи, и в таком виде учение доходит до нас. Тот, кто теперь, в наше время, будь он католик, протестант, православный, молоканин, штундист, хлыст, скопец, рационалист, какого бы ни был исповедания, тот, кто читает теперь Евангелие, находится в странном положении. Тот, кто умышленно не закрывает глаза, тот не может не видеть, что если тут не всё, что мы знаем и чем мы живем, то по крайней мере что-то очень мудрое и значительное. Но мудрое и важное это выражено так безобразно, дурно, как говорил Гёте, что он не знает более дурно написанной книги, как Евангелие, и зарыто в таком хламе безобразнейших, глупых, даже непоэтических легенд, и умное и значительное так неразрывно связано с этими легендами, что не знаешь, что и делать с этой книгой. Толкования к этой книге нет другого, как то, которое дают различные церкви. Толкования эти все исполнены бессмыслиц и противоречий, так что каждому представляется сначала только два выхода: или, осердясь на вшей, да шубу в печь, т. е. откинуть всё как бессмыслицу, что и делают 99/100, или покорить свой разум, что и велит делать церковь, и принять вместе с мудрым и значительным всё глупое и незначительное, что и делает 1/100 тех людей, которые или не имеют зрения, или умеют прищуривать глаза так, чтобы не видать того, чего не хотят видеть. Но и этот выход непрочен. Стоит показать этим людям то, что они не хотели видеть, и они волей — неволей бросают вместе с ложью и ту правду, которая была в ней замешана. И что ужасно при этом, это то, что ложь, смазанная с истиной, смазана с ней часто не врагами истины, но самыми первыми друзьями ее; то, что эта ложь считалась и была первым орудием распространения истины. Ложь о воскресении Христа была во времена апостолов и мучеников первых веков главным доказательством истинности учения Христа. Правда, эта же басня о воскресении и была главным поводом к неверию в учение. Язычники во всех житиях первых мучеников христианских называют их людьми, верующими в то, что их распятый воскрес, и совершенно законно смеются над этим.»
«Я смотрю на христианство не как на исключительное божественное откровение, не как на историческое явление, я смотрю на христианство, как на учение, дающее смысл жизни. Я был приведен к христианству не богословскими, не историческими исследованиями, а тем, что пятидесяти лет от роду, спросив себя и всех мудрецов моей среды о том, что такое я и в чем смысл моей жизни, и получив ответ: ты случайное сцепление частиц, смысла в жизни нет, и сама жизнь есть зло — я был приведен тем, что, получив такой ответ, я пришел в отчаяние и хотел убить себя; но вспомнив то, что прежде, в детстве, когда я верил, для меня был смысл жизни, и то, что люди верующие вокруг меня — большинство людей, не развращенных богатством, — веруют и живут настоящею жизнью, я усомнился в правдивости ответа, данного мне мудростью людей моей среды, и попытался понять тот ответ, который дает христианство людям, живущим настоящей жизнью. И я стал изучать христианство, и изучать в христианском учении то, что руководит жизнью людей.»
«Я не знал света, думал, что нет истины в жизни, но убедившись в том, что люди живы только этим светом, я стал искать источник его и нашел его в Евангелиях, несмотря на лжетолкования церквей. И, дойдя до этого источника света, я был ослеплен им и получил полные ответы на вопросы о смысле моей жизни и жизни других людей, ответы, вполне сходящиеся со всеми мне известными ответами других народов и на мой взгляд превосходящие все.»
«Если читатель принадлежит к огромному большинству образованных, воспитанных в церковной вере людей, но отрекшихся от нее вследствие ее несообразностей с здравым смыслом и совестью (остались ли у такого человека любовь и уважение к духу христианского учения, или он, по пословице: «осердясь на блох, и шубу в печь», считает всё христианство вредным суеверием), я прошу такого читателя помнить, что то, что отталкивает его, и то, что представляется ему суеверием, не есть учение Христа, что Христос не может быть повинен в том безобразном предании, которое приплели к его учению и выдавали за христианство; надо изучать только одно учение Христа, как оно дошло до нас, т. е. те слова и действия, которые приписываются Христу и которые имеют учительное значение. Читая мое изложение, такой читатель убедится, что христианство не только не есть смешение высокого с низким, не только не есть суеверие, но есть самое строгое, чистое и полное метафизическое и этическое учение, выше которого не поднимался до сих пор разум человеческий и в кругу которого, не сознавая того, движется вся высшая человеческая деятельность: политическая, научная, поэтическая и философская.
Если читатель принадлежит к тому ничтожному меньшинству образованных людей, которые держатся церковной веры, исповедуя ее не для внешних целей, а для внутреннего спокойствия, я прошу такого читателя, прежде чем читать, решить в душе вопрос о том, что ему дороже: душевное спокойствие или истина? Если спокойствие, то прошу его не читать; если же истина, то прошу его помнить, что учение Христа, изложенное здесь, несмотря на одинаковость названия, есть совершенно другое учение, чем то, которое он исповедует, и что потому отношение его, исповедующего церковную веру, к этому изложению учения Христа есть то же, как отношение магометанина к проповеди христианства, что вопрос для него не в том, согласно ли, или несогласно предлагаемое учение с его верою, а только в том, какое учение согласнее с его разумом и сердцем — его ли церковное учение, составленное из согласования всех писаний, или одно учение Христа. Вопрос для него только в том — хочет ли он принять новое учение, или оставаться в своей вере.
Если же читатель принадлежит к людям, внешне исповедующим церковную веру и дорожащим ею не потому, что они верят в истину ее, а по внешним соображениям, потому что они считают исповедание и проповедание ее выгодным для себя, то пусть такие люди помнят, что сколько бы у них ни было единомышленников, как бы сильны они ни были, на какие бы престолы ни садились, какими бы ни называли себя высокими именами, они не обвинители, а обвиняемые, — не мною, а Христом. Такие читатели пусть помнят, что им доказывать нечего, что они уже давно сказали, что имели сказать, что если бы они даже и доказали то, что хотят доказать, то доказали бы только то, что доказывают каждый для себя все сотни отрицающих друг друга исповеданий церковных вер; что им не доказывать нужно, но оправдываться. Оправдываться в кощунстве, по которому они учение Иисуса Бога приравняли к учениям Эздры, соборов и Феофилактов и позволяли себе слова Бога перетолковывать и изменять на основании слов людей. Оправдываться в клевете на Бога, по которой они все те изуверства, которые были в их сердцах, свалили на Бога Иисуса и выдали их за его учение. Оправдываться в мошенничестве, по которому они, скрыв учение Бога, пришедшего дать благо миру, подставили на его место свою святодуховскую веру и этою подставкою лишили и лишают миллиарды людей того блага, которое принес людям Христос, и, вместо мира и любви, принесенных им, внесли в мир секты, осуждения и всевозможные злодейства, прикрывая их именем Христа.
Для этих читателей только два выхода: смиренное покаяние и отречение от своей лжи или гонение тех, которые обличают их за то, что они делали и делают.
Если они не отрекутся от лжи, им остается одно: гнать меня, на что я, оканчивая свое писание, готовлюсь с радостью и со страхом за свою слабость.»
ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕДАКЦИОННОЙ КОМИССИИ
СЕРИЯ ПЕРВАЯ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
ТОМ 24
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ МОСКВА 1957
Перепечатка разрешается безвозмездно
ПРОИЗВЕДЕНИЯ 1880—1884
ПОДГОТОВКА ТЕКСТА И КОММЕНТАРИИ H. H. ГУСЕВА
Текст воспроизводится по экземпляру, находящемуся в фонде РГБ: Толстой, Лев Николаевич; Полное собрание сочинений. Том 24. Произведения 1880–1884; Государственное издательство художественной литературы, 1957; Российская государственная библиотека, 2006 (электронный документ в формате Adobe Reader)
Особая благодарность старшему преподавателю кафедры истории русской литературы и журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова Ирине Викторовне Петровицкой за выложенное в общий доступ Полное Собрание Сочинений Л.Н. Толстого (90–томник) в формате Adobe Reader.
Настоящее юбилейное издание первого полного собрания сочинений Л. Н. Толстого печатается на основании постановлений Совета Народных Комиссаров СССР от 25 июня 1925 г., 8 августа 1934 г. и 27 августа 1939 г.
Редактор O. A. Гозанова Технический редактор Л. М. Сутина Корректор К. Полетика
Подписано к печати 12/VIII–57 г. Бумага 68X1001/16—631/4 печ. л. 77, 79 усл. печ. л. 55, 76 уч. — изд. л. Тираж 5000. Зак. 1705.
Гослитиздат Москва, Б–66, Ново-Басманная, 19
Ленинградский Совет народного хозяйства. Управление полиграфической Промышленности. Типография M 1 «Печатный Двор» имени А. М. Горького Ленинград, Гатчинская, 26.
А Иисус нашел осленка и сел на него.
ПРИМЕЧАНИЕ
1) Стихи с 14 по 18–й говорят о значении того, что Иисус сидел на осле.
Вот что говорит об этом Рейс (Нов. Зав., т. VI, стр. 257):
Иисус сел на осла, которого он нашел. Никто тогда не обратил внимания на это обстоятельство. Позднее, когда ученики стали изучать Писание с целью отыскивать в нем указания на историю своего учителя, они открыли между прочим место Захарии (IX, 9), в котором говорится о въезде мессии, сидящего на осле. Эта подробность, совсем второстепенная в идеальном образе пророка, представляется чем-то в высшей степени важным для нашего автора, который пренебрегает всеми другими элементами рассказа, чтобы напомнить только, что этот осел действительно выступал в тот день, и чтобы подтвердить, таким образом, действительность предсказания. Это наивное признание дает нам возможность понять, каким образом с самого же начала христианское общество оказалось в состоянии собрать довольно значительное и постоянно возраставшее число пророчеств, очень частных, открытых в древних текстах и вскоре образовавших самое ядро апологетической науки. Что касается выражения: когда прославился Иисус, то мы знаем, что оно значит: после его смерти и вознесения. Это сделали ему, потому что так было о нем написано: это та же точка зрения, как у Матфея в его обычном выражении: «сие произошло, да сбудется реченное чрез пророков…» Нет никакой надобности переводить: «Они (ученики) сделали так, не зная, что они выполняли пророчество».
———
Стихи эти ничего не показывают и ничего не изменяют, и потому они не нужны.
Mp. XI, 11. и вошел Иисус в Иерусалим.
И въехал Иисус в Иерусалим.
Мф. XXI, 10. И когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил: кто сей?
И когда он въехал, поднялся весь город и спрашивал: кто это?
11. Народ же говорил: Сей есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского.
Народ говорит: это Иисус, пророк из Назарета Галилейского.
12. И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме.
И вошел Иисус в храм и, войдя в храм, выгнал всех тех, что продавали и покупали.
Ин. XII, 19. Фарисеи же говорили между собою: видите ли, что не успеваете ничего? весь мир идет за ним.
Пастыри же говорили друг другу: смотрите, чего же еще? весь мир за ним пошел.
Mp. XI, 18. Услышали это книжники и первосвященники и искали, как бы погубить его; ибо боялись его, потому что весь народ удивлялся учению его.
И придумывали, как бы погубить его, потому что боялись его тем, что народ восхищался его учением.
Ин. XII, 20. Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые еллины.
Были же некоторые греки из тех, которые пришли на праздник.
21. Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, говоря: господин! нам хочется видеть Иисуса.
Вот эти-то подошли к Филиппу и сказали ему: господин, мы хотим Иисуса видеть.
22. Филипп идет и говорит о том Андрею; и потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу.
Филипп пошел и сказал Андрею. А Андрей и Филипп сказали Иисусу.
23. Иисус же сказал им в ответ: пришел час прославиться сыну человеческому.
И Иисус на ответ сказал им: пришел час, когда признается сын человеческий.
24. Истинно, истинно, говорю вам: если пшеничное зерно, падши в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода;
Вы сами знаете, что если зерно пшеничное, упав на землю, не умрет, так и останется одно. А умрет, то принесет много плода.
25. Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сем — сохранит ее в жизнь вечную.
Тот, кто боится за свою жизнь, тот погубит ее. А кто не бережет своей жизни в этом мире, сохранит ее в жизнь истинную.
26. Кто мне служит, мне да последует, и где я, там и слуга мой будет. И кто мне служит, того почтит отец мой.
Если мне кто служит, тот пусть и следует за мной. Где я, там и мой слуга. Тот, кто мне служит, того почтит мой отец.
ПРИМЕЧАНИЕ
Вот что говорит Рейс (Нов. Зав., т. VI, стр. 258):
Это опять одно из мест, подтверждающих наш взгляд на степень исторической достоверности бесед, в которых евангелист собственными словами Иисуса излагает развиваемые им идеи. То, что греки, под которыми надо понимать здесь необрезанных эллинских уроженцев, оказывались в числе богомольцев, прибывших на праздник пасхи, и что они явились не просто из-за любопытства, а из-за сознанных ими религиозных нужд, это столь явно засвидетельствовано апостольской историей, что не может возбуждать ни малейших сомнений. Однако едва ли кто оставит незамеченным, что автор ограничивается лишь выведением их на сцену и что он их оставляет там, нимало не заботясь о них далее. (Наиболее осведомленные полагают, что Иисус имел сочувственную беседу с греками, проходя по наружному двору, где они должны были остановиться, поджидая его выхода.) Однако не к ним обращается с своей речью Иисус, а к своим ученикам или, лучше сказать, к читателям книги; ученики не передают ответа грекам, и те исчезают, оставляя в неведении, достигнута ли была ими их цель и ушли ли они довольными.
Однако если этот рассказ ни с какой стороны не может удовлетворить того, кто требует от историка ясно обрисованных событий, то зато он является в высшей степени значительным по той идее, которую он выражает, и символическое достоинство повествования нигде не раскрывается в большем величии и обаянии.
Автор достиг конца общественной жизни Иисуса. Картина трагического столкновения нового откровения с духом иудейства закончена. Ничтожное меньшинство уверовало, могущественное большинство не только осталось глухо к призыву, но готовится насильнически разрушать дело возрождения мира, едва начатое. Отныне речь всецело идет об этом антагонизме.
Читатель предчувствует неминуемую катастрофу. И вот новый горизонт неожиданно открывается перед его глазами; перспектива, еще на минуту вполне идеальная и пророческая, дает ему возможность усмотреть позади дела, по-видимому половинчатого, если не потерянного, славное завоевание языческого мира, ту награду, блестящую и лучезарную, которая вскоре заставит забыть сопротивление, столь же жалкое, сколь злобное, иудейского мира. И завоевание это, можно сказать, представлялось само собою; апостолы Христа даже и не думали о нем. Более того. Когда обнаружились первые признаки этого движения, как бы внушенного провидением и почти чудесного, ученики с трудом поняли его, они колебались примкнуть к нему, советовались друг с другом и с какой-то рабской робостью обратились к самому учителю, спрашивая, как им быть… И в этом не было ничего исключительного; тут сказался самый дух событий, с такой ясностью переданных в Деяниях; в этом выразилась, в сущности, вся апостольская история. Как всегда, скупой на слова, автор немногими чертами набрасывает эту программу будущего, исполнения которой он сам был свидетелем еще до написания своей книги. И это не его вина, если его толкователи, видя лишь внешнее, запутались в дебрях грубо-буквального толкования, сбитые с толку недомолвками в тексте, и тем меньше понимали сущность идеи, тем больше вдавались в раскапывание мелочей. (Мы не будем касаться здесь басни о посольстве царя эдесского Абгара, передаваемой Евсевием и повторяемой любителями легенд.)
И вот лишь только мы встанем на эту точку зрения, давая себе отчет в природе повествования, как нам уже станет легко уловить внутренний смысл в словах Иисуса, которые это повествование представляет с известной выпуклостью. Завоевание мира, под которым надо понимать завоевание языческого мира, обусловливается предварительной смертью Спасителя. Именно она даст толчок к этому победоносному шествию Евангелия, всё еще обещанному, но пока еще столь мало выполненному, и она прежде всего будет прославлением отца и сына, исполнившего дело отца. Здесь опять на историю возлагается обязанность оправдать утверждения нашего текста. Однако если наш автор нуждался в известном жизненном опыте для того, чтобы проникнуться этой истиной, то Иисус, по свидетельству самих синоптиков, предвидел и предсказал великие предназначения своего евангелия, зависящие от этого условия, хотя он не признавал своевременным приниматься тотчас же и непосредственно за их осуществление и даже не склонял к тому учеников. Как нетрудно заметить, идея прославления сына человеческого ставится здесь в близкую связь с расширением его дела или его влияния в мире; и вот почему образ пшеничного зерна избирается здесь предпочтительно пред каким-либо другим. Это зерно может сохраняться в своем естественном состоянии неопределенно долгое время, но оно будет оставаться тем, что оно есть, одиноким и предоставленным самому себе, пока не придет в соприкосновение с сырою землею. Плодородие его зависит от его смерти, — другими словами, от преобразования, при котором животворящий зародыш освобождается от своей оболочки. Этот образ делает понятным парадоксальное выражение о смерти, рассматриваемой как условие жизни, или, точнее, о смерти, рассматриваемой как условие сообщаемой другим жизни.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "ПСС. Том 24. Произведения 1880-1884 гг."
Книги похожие на "ПСС. Том 24. Произведения 1880-1884 гг." читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Лев Толстой - ПСС. Том 24. Произведения 1880-1884 гг."
Отзывы читателей о книге "ПСС. Том 24. Произведения 1880-1884 гг.", комментарии и мнения людей о произведении.