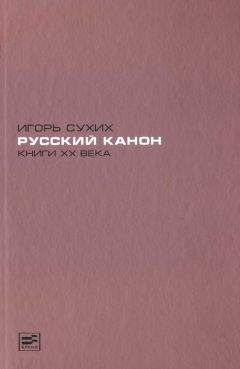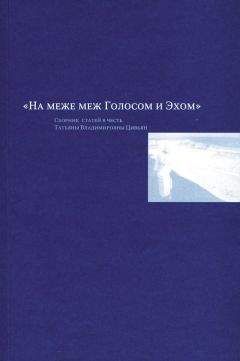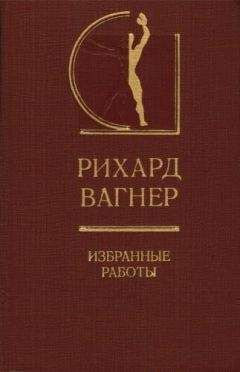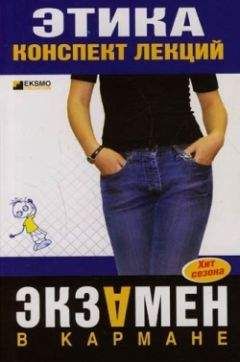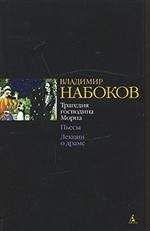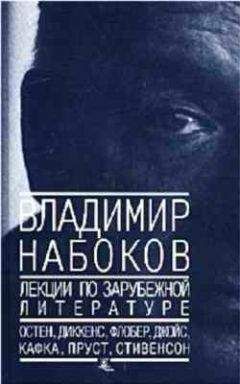Борис Костелянец - Драма и действие. Лекции по теории драмы
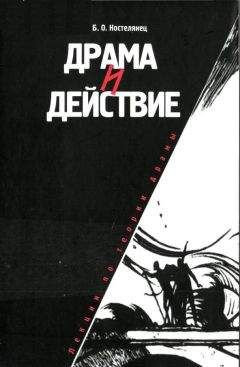
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Драма и действие. Лекции по теории драмы"
Описание и краткое содержание "Драма и действие. Лекции по теории драмы" читать бесплатно онлайн.
В сборник вошли фундаментальные работы Б. О. Костелянца (1912–1999) по теории драмы. Прежде всего это два выпуска лекций «Драма и действие» (1976, 1994), в которых автор выявляет то позитивное, что в философской теории драмы сохранило свое значение для современности, по новому осмысляя не только драматургию далекого прошлого, но и XIX–XX веков. В настоящем издании лекции публикуются с учетом авторской правки, восстановленной по рукописям и авторским экземплярам. Разработанная теория драмы блистательно применена автором в анализе «Царя Эдипа» Софокла и «Бесприданницы» Островского, включенном в настоящее издание. В приложении впервые публикуется конспект лекции Вс. Мейерхольда о Пушкине, сделанный Костелянцем в 1935 году.
Давыдов невольно оказывается в плену того самого экзистенциалистского подхода к Софоклу, несостоятельность которого он вознамерился доказать. Разве Софокл реально ставит себе цель вызвать «сострадание» к Эдипу и «страх» за него всего лишь потому, что тот дерзко не внял оракулу из Дельф? Софокл ведь ждал от зрителя сложной реакции, сопрягающей сострадание с восхищением по отношению к герою, осмелившемуся вступить на путь сопротивления чудовищным пророчествам во имя гуманных, благородных целей. В Дельфах Эдип не проявляет ни покорности, ни готовности примириться с прорицанием, противоречащим его человеческому предназначению и требованиям новой, нарождающейся нравственности. Тут — завязка конфликта, и игнорировать ее нравственную природу нет никаких оснований.
Поэтому нельзя согласиться с утверждением Давыдова, будто у Софокла Эдип — лицо «этически нейтральное». Эдип и его притязания — этически нейтральны? Ведь его трагедия связана именно с инициативой, с исканиями в сфере нравственности.
Широкий спектр деяний, совершаемых действующими лицами и внесценическими персонажами «Царя Эдипа», связан именно с нравственной проблематикой, по отношению к которой никто (а тем более — Эдип) не «нейтрален». Нижняя граница моральной безответственности обозначена здесь поступком Лая, решившего во имя самосохранения погубить своего сына.
Ф. Зелинский говорит о ненависти Иокасты к оракулам, отнявшим у нее ребенка, но и о «порочности Лая», которую царица противопоставляет «мудрости и великодушию» нового мужа — Эдипа[389]. Лай стремится избежать не преступления, а, совершая его чужими руками, пытается избежать наказания. На противоположном полюсе — Эдип, чья судьба во многом определяется его отказом после посещения Дельф совершать поступки, с его точки зрения, безнравственные, даже если таково веление судьбы; позднее, уже в Фивах, его поступки диктуются пониманием своей ответственности как за свое будущее, так и за судьбу подвластного ему города.
Эдипа, уже в Дельфах принявшего решение, расходящееся с требованиями безличных, роковых сил, Софокл сталкивает не только с ними, а и с рядом лиц, каждое из которых занимает в фабуле трагедии и ее общей концепции свое важное место. Забывать о них — непростительно, ибо действия каждого соотносятся с поведением главного героя. Почувствовать, осознать и оценить мотивы и общий смысл того, что им совершено, можно лишь в контексте всех акций и реакций действующих в трагедии сил — надличных и вочеловеченных.
Однако, не соглашаясь с представлениями об Эдипе как лице, чьи высокие нравственные притязания Софокл считает бессмысленными, нельзя согласиться и с попытками представить Эдипа героем не трагическим, а идеальным.
3Обращаясь в нескольких работах к творению Софокла, В. Ярхо анализирует развитие действия, его построение, отдельные его эписодии. Но в этом анализе удивляет прежде всего то, что исследователь отказывается признать значение всех до-сценических событий — тех именно, которые, как известно, завязывают фабулу «Царя Эдипа».
Поэтический замысел Софокла, полагает Ярхо, состоял в изображении человека, преданного одной идее, реализующего свое решение до конца, верного себе во всех проявлениях своего характера, — одним словом, человека, «каким он должен быть», чтобы служить «нормой и идеалом для своих современников».[390]
Сходную мысль об Эдипе высказывает и В. Днепров. Если искусство выполняет две функции — познавательную и нормативно-эстетическую, то, по Днепрову, в античности первая функция уступает место второй, чем и обусловлено появление в ту пору образов идеальных. Мысль о том, что античное искусство не ставило перед собой познавательных целей, противоречит общеизвестным высказываниям Аристотеля о поэтическом мимезисе как особого рода познании, доставляющем нам удовольствие. Обратим здесь внимание лишь на еще одно высказывание Днепрова, которое, видимо, должно подкрепить его точку зрения. «Сравнение трагических героев Софокла с образцами классической скульптуры глубоко верно, — пишет он. — Беломраморные лики героев-победителей по-разному представляют один и тот же образ — идеальный образ человека сильного и доблестного»[391].
Но разве скульптурные лики «героев-победителей» и впрямь были в свое время «беломраморными»? Ведь это время их «выбелило». А главное, основательно ли отождествление трагических героев с образами античной скульптуры, не ставившей своей целью выявление трагических аспектов жизни? Относительно Эдипа мы уверены, говорит Днепров, «в том, что он всегда будет действовать разумно и хорошо»[392]. По Ярхо, Эдип тоже всегда действует подобным образом.
Днепров не считает нужным хоть сколько-нибудь аргументировать свою точку зрения. Ярхо же обосновывает понимание Эдипа как идеального героя анализом трагедии Софокла, но вынужден упрощать ее коллизии. «Легко показать, — пишет Ярхо, — что драматическая ситуация в «Царе Эдипе» не имеет никакого отношения к осуществлению прорицаний, полученных некогда порознь Лайем и Эдипом»[393].
Настораживает уже то, что ситуация названа не трагической, а драматической. Это, как увидим, неспроста. Что же касается «прорицаний», то ведь они-то и побудили Эдипа пуститься в путь по неизвестной дороге, где произошла роковая для него схватка. Да и в Фивы он попадает, «убегая» от полученных им прорицаний, стремясь избежать их осуществления. Важнейшее значение этих прорицаний в сложении трагической ситуации очевидно. Отрицать это можно, пренебрегая фабулой трагедии во имя, так сказать, излюбленной исследователем мысли об «идеальном» Эдипе.
Но Ярхо упорно настаивает на своем: содержанием трагедии является не то, что произошло «задолго до начала действия», «не прошлое, а настоящее, не давно случившееся, а его последствия»[394]. Еще более решительно и менее убедительно звучат следующие заявления: «встреча Эдипа с Лайем находится далеко за пределами пьесы»[395]. А преступления, «по неведению совершенные Эдипом, задолго до начала трагедии, не могут служить действенным средством для организации ее сюжета»[396].
Странное здесь выдвинуто представление о «пределах пьесы», касающееся уже не только произведения Софокла, но и драматургии вообще. Ведь, как правило, в «пределы» любой пьесы включаются, наряду со сценическими, и эпизоды до- и внесценические. Приняв точку зрения Ярхо о «пределах» пьесы, мы должны были бы пренебречь всем случившимся «до начала» шекспировского «Отелло», то есть необычной, необычайной для Венеции любовью, связавшей Дездемону с мавром, к которому она сбежала «до начала» (как его понимает Ярхо) пьесы. Следовало бы в таком случае отсечь предысторию взаимоотношений Ларисы с Паратовым, закончившуюся его бегством из Бряхимова и побудившую Ларису стать невестой Карандышева. Можно ли понять сюжет и поэтическую концепцию «Трех сестер», игнорируя все «до-» и «вне-» сценические события, входящие, разумеется, «в пределы» этой пьесы?
Фабулу «Царя Эдипа» составляет процесс раскрытия и узнавания-осмысления случившегося «задолго» до того, что Ярхо считает «началом» трагедии. Все, включаемое Ярхо «в пределы» пьесы Софокла, есть развязка событий, завязавшихся до начала сценического действия. До-сценические поступки Эдипа определяют не только ход сценического действия, но и его смысл.
Цель, ради которой исследователь призывает нас сосредоточиться лишь на событиях, совершаемых на сцене, проста: оказывается, на глазах зрителя Эдип не делает ничего такого, что может быть вменено ему в вину, а тем более — сочтено виной трагической. На наших глазах Эдип от начала до конца безупречно идеален.
Доказывая это, Ярхо весьма «неадекватно» интерпретирует и содержание тех событий, которые происходят на глазах зрителя.
Прежде всего нас хотят убедить в том, насколько умно, корректно и выдержанно Эдип ведет себя в прологе и первом эписодии. Как «у честного человека и хорошего царя», у него нет секретов от подданных: возвратившемуся из Дельф Креонту он велит огласить волю Аполлона при всех.
Труднее приходится исследователю, когда ему предстоит разобрать эпизоды со старцем Тиресием и Креонтом. По мысли Ярхо, «патриот» Эдип вправе счесть старца «антипатриотом», «негодовать на антипатриотическое поведение Тиресия», поскольку тот уклоняется от ответа на вопрос о том, кем же был убит Лай. «Загадочные намеки» старца, вполне естественно, заставляют патриота Эдипа «выйти из себя».
Но ведь с уст провидца слетают не только намеки. Когда разгневанный Эдип опрометчиво (а по Ярхо — весьма обоснованно) объявляет Тиресия соучастником убийства, тот в ответ напрямик заявляет:
Страны безбожный осквернитель — ты!
Как ведет себя после этого Эдип? Если поверить Ярхо, «волнения Эдипа выливаются в страстный, горячий монолог», в котором он обличает честолюбие Тиресия и Креонта. Но зачем смягчать ситуацию? При чем здесь честолюбие? Эдип обвиняет старца и Креонта в стачке с целью сместить его с трона. Какой логике здесь следует Эдип? Разумеется, он в негодовании, даже разъярен. В таком состоянии царь ведет себя с Тиресием, а затем и с Креонтом отнюдь не как «идеальный» герой. Подобно многим простым смертным, в разные времена попадавшим в критическое положение, Эдип ищет и незамедлительно обнаруживает интриганов, «заговорщиков», повинных во всех смертных грехах и несчастьях.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Драма и действие. Лекции по теории драмы"
Книги похожие на "Драма и действие. Лекции по теории драмы" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Борис Костелянец - Драма и действие. Лекции по теории драмы"
Отзывы читателей о книге "Драма и действие. Лекции по теории драмы", комментарии и мнения людей о произведении.