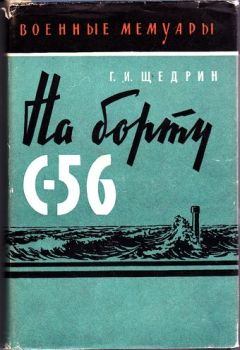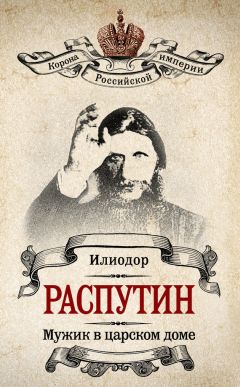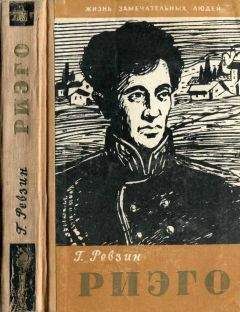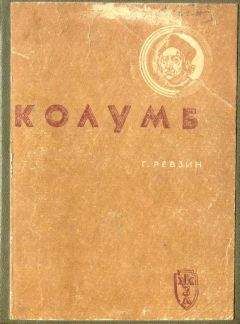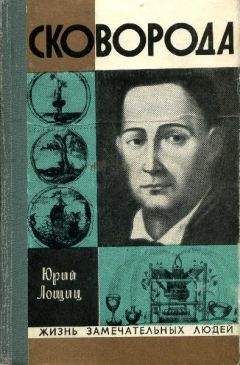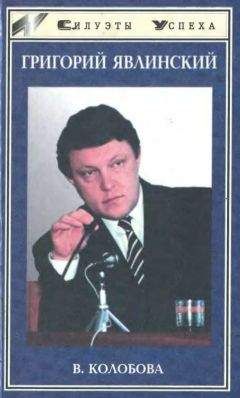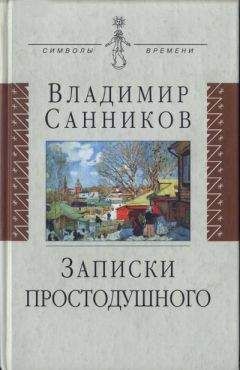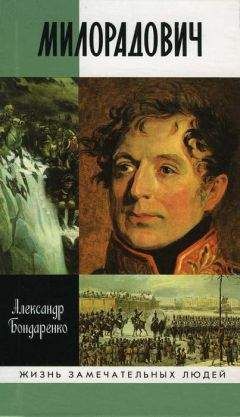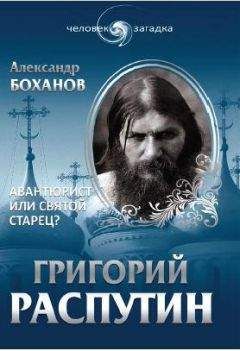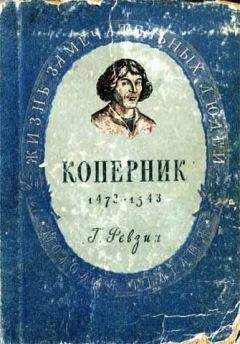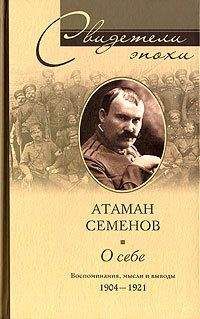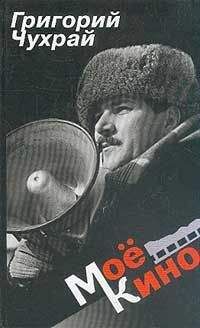Григорий Померанц - Записки гадкого утёнка

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Записки гадкого утёнка"
Описание и краткое содержание "Записки гадкого утёнка" читать бесплатно онлайн.
Известный в России, и далеко за ее пределами эссеист, философ и филолог выступает на этот раз с мемуарной прозой. Григорий Померанц пережил и Сталинград, и лагеря, и диссидентство, но книга интересна не только и не столько событиями, сколько рожденными ими мыслями и чувствами. Во взлетах и падениях складывается личность человека, и читатель вступает в диалог с одним из интереснейших современников и проходит вместе с автором путь духовного труда как единственную возможность преображения.
В балке Тонкой — та же тоска. Днем реденькая цепь, составленная из упраздненных обозников, подымалась и снова ложилась, ничего не добившись. К вечеру возвращались в балку политработники, посланные в батальоны. Усталые, охрипшие, они по долгу службы пытались мне что-то рассказать, но я чувствовал за их словами то же, что по дороге: тоску и отчаянье.
Я вспоминал свой солдатский опыт — как нас выложили на снег. Даже не цепью, а кучей, и снег постепенно розовел пятнами крови. То, что я тогда испытывал, наверное, испытывала бы мишень, если бы могла чувствовать и думать. Или кусок мяса, который проворачивают в мясорубке. Додумать тогда мне было некогда. Я был захвачен другим: выстоять, вынести. Я давил в себе тоску, сознание бессмыслицы всего, что делается. А теперь я мог подумать. Убивали не меня, убивали других — и грызла тоска.
Почему-то особенно помню разговор с парторгом 405-го полка. Я вообще предпочитал иметь дело с комсоргами. Их только что назначили из солдат, и отношения складывались на равных. Но этот парторг все время держал комсорга при себе, как сына или младшего брата, и я привык к обоим. Ограниченность старшего была написана на его конопатом лице. Просто дубина. Месяца три спустя он не принял в партию минометчика, отец которого был раскулачен. Это в декабре 42-го, на фронте, когда на такие вещи обыкновенно плевали. У парня даже слезы выступили на глаза. И комсомольская организация осталась в дураках — она этого младшего сержанта (кажется, Гранатчикова) рекомендовала. Словом, дубина дубиной. Но какая-то в нем была простота и искренность.
Парторг никогда не отказывался давать мне материал, но в этот вечер он с трудом выдавливал из себя слова. Видно, чувствовал, не сознаваясь себе, что все это фальшь. Ну, провел сержант Иванов на рассвете партийное собрание, и коммунисты пошли вперед… А потом? Потом продвинулись на 100 или 200 метров и опять залегли. То есть вылезли из своих кое-как выкопанных ровиков и теперь должны их копать заново, под минометным огнем и бомбежкой, долбать твердую землю маленькими солдатскими лопатками…
Артиллеристы возят с собой большие лопаты, кирки и окапываются за ночь намертво. Год спустя, на подступах к линии Вотана, я прыгнул в ровик третьим. Подо мной лежали еще два солдата. Бомбили пикировщики точно, как на учении, наверное, доложили, что батарея уничтожена. А когда улетели и мы оглянулись — всего только подбит один миномет и контужен один солдат. Другое дело пехота. Пехотинец в наступлении голый. И эти продвижения на 100, 200 метров — нечто вроде коллективного харакири.
Но надо было говорить о подвигах, и парторг выдавливал из себя подвиги. Потом человеческим голосом заговорил о другом: «Где теперь моя жена? Спит, наверное, с немцем…» Помолчал немного и прибавил: «Ну ничего, дойдем до Берлина — мы немкам покажем!»
Я был поражен (потому и запомнил). Какая тут логика? Почему мы, гуманисты, должны повторять фашистов? И почему это говорит парторг? Куда девался реальный гуманизм — логическая основа коммунизма? Все эти вопросы остались во мне невысказанными. Но я вспомнил их в 1945 году. Сам парторг, впрочем, до Берлина не дошел. И комсорг не дошел. Обоих убили 9 или 10 января 43-го.
Вскоре после нашего разговора в балке Тонкой издан был приказ № 306. Оказывается, в степи нельзя воевать так, как в лесу. Нужны более редкие боевые порядки. Я думаю, нужно было еще очень многое (например, не отдавать невыполнимых приказов и давить на фланг Паулюса ночными атаками, используя время, когда «юнкерсы» не летают). Но если все дело в редких боевых порядках, то почему два военных гения, Сталин и Жуков (руководивший операцией), не завели таких порядков? Ребенку известно, что на Нижней Волге лесов нет. Впрочем, ребенку известно и то, что на севере зимой холодно. Но теплое обмундирование было заведено только после финской войны. Не потеряв нескольких сот тысяч или нескольких миллионов, гений Сталина дремал. А потом печаталось очередное «Головокружение от успехов», и мы, как идиоты, радовались, что там, в Кремле, бодрствует великий ум.
В балке Тонкой я кое-как записывал фамилии, возвращался на КП и утром, лежа на солнышке, кропал статейки. Работа легкая, я выполнял ее за час. Сапожников мне завидовал — он творил мучительно долго. Но его душа была, кажется, спокойна: у него не было ни ума, ни воображения. А в моей — как в животе, который никак не мог переварить воду с дохлой лошадью. Никогда я не выглядел так отвратно. Исхудал, в очках уцелело одно стеклышко, и то на левом глазу. А на лице этого огородного пугала было написано то, что в современной философии называется абсурдной ситуацией. Подныривать под абсурд я тогда не умел и медленно захлебывался.
В это самое тягостное для меня время помначполитотдела по комсомолу, высокий красивый юноша, весь в блестящих ремнях, вдоль, поперек и крест-накрест, предложил мне стать комсоргом управления дивизии. Должность внештатная, и в полевых условиях занимать ее мог только человек, который бывает и в первом, и во втором эшелоне. Кроме меня, просто некого было на нее поставить. Иначе, конечно, выбрали бы кого поприличнее, чем доходягу в обмотках, шинели не по росту и с одним стеклышком на левом глазу.
— Мы вас и в партию примем, — сказал помнач, уговаривая меня. Я просто не посмел отказаться. Сам бы не торопился, — но отказаться! Это совсем другое дело. Тогда надо было сказать что-нибудь в объяснение — например, отец у меня репрессирован, подождать бы, пока больше себя проявлю… А мне это без прямого вопроса говорить не хотелось. И без того кадры чувствовали во мне чужого. Сапожников прямо шипел на конкурента, подрывавшего его профессиональный престиж. И, видимо, с его подсказки замнач, батальонный комиссар Штейн, спрашивал меня, на самом ли деле я хромаю (видимо, судачили, что я притворяюсь). И вдруг я кому-то в политотделе оказался нужен. Словом, я согласился. Потом уже стал вживаться в новое положение и подумал: раз я попал в систему политорганов, то как оставаться беспартийным? Если мы победим, то террор окажется ни к чему, и перегибы 37-го года будут исправлены. А не победим, так жидов и комиссаров в один ров… И постепенно я привык к своей партийности. Приняли меня по-фронтовому, без вопроса об отце. Хотя принимали два раза: документы парткомиссии сгорели, и в марте процедуру пришлось повторить.
Новые обязанности мои были несложны: один раз в месяц собрать членские взносы и иногда написать рекомендацию в партию от имени общего собрания (которое я ни разу не собирал). За взносами я заходил в штаб дивизии (комсомолец-переводчик), в прокуратуру (комсомолец-следователь). Сперва чувствовал себя неловко, потом привык. Одна внештатная должность подперла другую, и установилось (на полтора года) равновесие, хрупкое, как всё в моей жизни. Трофейную команду расформировали. Я нигде не состоял в списке, нигде не получал денежного и вещевого довольствий. Но вся дивизия знала меня в лицо и по фамилии; я был ничто в военной иерархии, но ничто всем известное; ничто, ставшее лицом. Не было такого батальона, такой батареи, где бы я несколько раз не побывал.
Примерно с конца сентября прекратились судороги нашего мнимого давления на фланг Паулюса. Покойников захоронили как следует, смрад прекратился. Плотность огня упала, расширилась зона, по которой я мог ходить днем. Над степью, огромными перекатами уходившей на запад, развернулось огромное синее небо, и на нем засветило холодное октябрьское солнце. Оно светило в августе и в сентябре, но тогда как-то не мог я видеть его сквозь дым разрывов и смрад. Только сейчас я увидел и степь, и небо, и солнце. А временами чувствовал, что мои корреспонденции доставляли артиллеристам радость. Примерно как артистам — хорошая рецензия. И артисты с удовольствием встречали меня и с удовольствием рассказывали, как они играли свою роль.
Дивизионной газетке положено писать о рядовых и сержантах, и я этого в общем придерживался. Но косвенно слава распространялась и на командиров взводов, рот, батарей, батальонов. Как только начались победы — всем захотелось славы. И я доставлял гладиаторам это утешение. И по мере того, как работа начинала мне нравиться, снова спускалось покрывало Майи и мое «я» растворилось в армейском «мы», для которого статейки, вырезывавшиеся из газеты, и железки, прикреплявшиеся к правой или левой стороне гимнастерки, были кусками вечности. Железки тоже иногда давались по следам моих заметок…
То, что увлекает людей действовать, участвовать в истории, сражаться, можно сравнить с брачными играми животных. Играет Бог, окутывая бытие завлекательными образами. Играет человек, создавая самому себе приманки. Во время войны эта человеческая игра шла живее, чем в дни мира. Миллионам людей дали оружие, дали видимый, ощутимый образ зла и возможность победить его. Месяц за месяцем ничего не выходило. А потом что-то начало клеиться. И солдат, обманувший смерть, взлетал на крыльях славы.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Записки гадкого утёнка"
Книги похожие на "Записки гадкого утёнка" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Григорий Померанц - Записки гадкого утёнка"
Отзывы читателей о книге "Записки гадкого утёнка", комментарии и мнения людей о произведении.