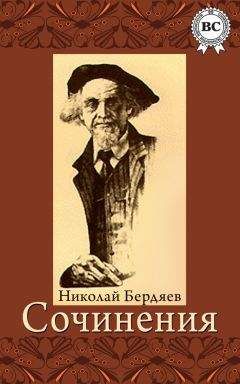Лев Шестов - Николай Бердяев (Гнозис и экзистенциальная философия)
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Николай Бердяев (Гнозис и экзистенциальная философия)"
Описание и краткое содержание "Николай Бердяев (Гнозис и экзистенциальная философия)" читать бесплатно онлайн.
Если вы спросите Бердяева, откуда ему все это известно, он спокойно сошлется вам на гнозис: все это ему известно из опыта, правда, не природного, а «духовного». И сошлется на свидетельства великих мистиков, преимущественно немецких — того же Бёме, Мейстера Экгегарда, Ангелуса Силезиуса, Таулера и др. Но разве опыт дает «знание»? Сам Кант, который так многому научил Бердяева, открывает свою «Критику чистого разума» словами: «всякое знание начинается с опыта, но из этого вовсе не следует, что оно все происходят из опыта». Больше того: в опыте, так таковом, знания еще нет. Всегда возможен новый опыт, который старый опыт совсем отменит или радикально изменит. Это так же относится к эмпирическому опыту, как и к тому, что Бердяев называет опытом духовным, в котором он видит прорыв из иных миров. Знание, всякое знание, всякий «гнозис» предполагает оформленный опыт — законченный, окончательный. Все приведенные сейчас Бердяевым суждения именно потому и вправе называться знанием, что им эта форма — форма всеобщности и необходимости — безусловна и присуща. «Добро, победившее зло, есть добро большее, чем то, которое существовало до появления зла». Отнимите у этого суждения его всеобщность и необходимость, отнимите у него принудительность, со всеобщностью и необходимостью связанные (все равно, пришла ли она от объекта или от субъекта), оно перестанет быть знанием. А меж тем Бердяев во всех своих книгах страстно ополчается на принудительность и самым решительным образом отказывает ей в праве сопровождать и охранять истину. Бердяев прославляет свободу, как высший дар — правда, не небес, свобода ведь не сотворена — но все же, как дар, и во всякого рода принуждении готов видеть и действительно видит посягательство на священные права человека.
Но как же быть, если отказать высказанным Бердяевым суждениям в принудительной силе? Он утверждает: «свобода не сотворена», «добро, победившее зло, есть большее добро, чем то, которое существовало до появления зла», что не может быть света без тьмы и т. д. Так полагал Бёме, так полагали и другие немецкие мистики. Но ведь были люди, которые думали и говорили иначе. Бердяев сошлется на опыт, Бердяев сошлется на интуицию, но мы уже знаем, что опыт не обеспечивает истины, да, затем, если у разных людей их опыт свидетельствует о разном, то откуда знать, какой опыт открывает истину? То же и с интуицией. Кто только не ссылался на интуицию, кто не говорил даже об intuitus mysticus? [5] Очевидно, опыта и интуиции недостаточно. Когда Спинозу спросили, откуда он знает, что его философия истинна, он ответил: оттуда, откуда ты знаешь, что сумма углов в треугольнике равна двум прямым. Бердяев, конечно, не примет этого ответа Спинозы: в нем он усматривает рационализм.[6] Но тогда, какой же ответ может он дать? Или, говоря иначе, как быть с опытом уже не ограниченных рационалистов, а значительных, великих гениев, провидцев и мистиков — таких, какими, по словам самого Бердяева, являются Мейстер Экгегард, Таулер, Ангелус Силезиус, Яков Бёме и др. Вопрос первостепенной важности и требует того, чтобы на нем внимательно остановиться. Возьмем хотя бы Мейстера Экгегарда. Он заявляет: вам говорили, что выше всего любовь. А я вам говорю, что отрешение выше любви. Надо решить, надо выбрать — где истина? Там ли (т. е. у апостола Павла), где любовь ставится над всем и, стало быть, над отрешением, или там, где отрешение ставится над любовью? Или тот же Экгегард заявляет, что Бог оставался совершенно равнодушным, слушая доходившие до Него вопли распинаемого Сына. И находит, что «это хорошо: отрешение выше и любви, и милосердия, и сострадания». Выше не только для человека, но и для Бога. А Киргегард утверждает, что Бог безмерно страдал, слушая вопли своего Сына, и мучился совсем по-человечески, так же, как и сам Киргегард, когда ему пришлось порвать с невестой своей, только безмерно больше. Или Ангелус Силезиус и Мейстер Экгегард говорят о том, что Deitas над Богом или что Бог не мог бы и мгновения просуществовать без человека. Гегель ставит это в центр своей религиозной философии, немецкие богословы (напр., знаменитый Рудольф Отто) видят в этом глубочайшее постижение, сам Бердяев, приводя в оригинале обширные извлечения из их сочинений, трепещет от восторга, считая, что тут имеет место прорыв из иного мира — но, несомненно, что, если бы Паскалю довелось прочесть приводимые Бердяевым выписки, он бы вспомнил слова псалмопевца: и сказал безумец в сердце своем — нет Бога. «Опыт» — против «опыта». Которому отдать предпочтение? И кто тот, кому дано заведовать этими предпочтениями? Такого вопроса Бердяев не ставит, не может ставить: несотворенная свобода, открываемая феноменологией в первозданном бытии, не допускает на него ответа. А меж тем фактически он без ответа обойтись не может. Он выбирает тот опыт, который почему-либо больше говорит ему лично (вернее, не он выбирает опыт, а опыт выбирает его) — и на этом строит свой гнозис. И, чтоб положить конец докучным вопрошаниям, он ссылается на то, что излюбленный им опыт свидетельствует о прорыве из иных миров в то время, как всякий другой опыт относится к миру, как он выражается, природному. В этом, если хотите, притягательная сила писаний Бердяева. В противоположность Достоевскому, Киргегарду и Ницше (чтобы говорить лишь о современниках), он на вопросах не любит долго задерживаться и задерживать своих читателей — он всегда торопится к ответам, которые к нему как бы сами собой приходят. Он вскользь говорит о «гениальной диалектике Ивана Карамазова» (т. е. о замученных детях), но неисчерпаем, когда нужно говорить о способах преодоления трудностей и ужасов жизни. Он даже избегает слов «ужасы жизни» и никогда не вспоминает о безысходности. Оттого его писания носят в значительной степени дидактический, назидательный характер и, нужно сказать, что тут он, точно обретая свою родную стихию, доходит часто до великолепного пафоса. И чем вдохновеннее он говорит на такого рода темы, тем больше убеждается он в том, что в его словах скрыта единственная и последняя правда, что они несут весть о действительном прорыве из иных миров и что всякий, кто не расслышит в них высшую истину, тем обрекает себя на «вечную гибель». Правда, никто с такой энергией, как Бердяев, не восставал против усвоенной теологами идеи вечной гибели. Но, с другой стороны, как быть с людьми, которые останутся равнодушными к доходящим до нас из иных миров велениям? У Бердяева в «Назначении человека» (297) мы читаем: «Нравственное сознание началось с Божьего вопроса: «Каин, где брат твой Авель?» Оно кончится другим Божьим вопросом: «Авель, где брат твой Каин?» Мы знаем, что ответил Каин Богу: разве я сторож брату моему. Но что может ответить Богу Авель, если даже предположить, что, в противоположность брату своему, он окажется сотканным из одних лишь добродетелей? Свобода ведь иррациональна. «Победа над темной свободой, — пишет тут же Бердяев, — невозможна для Бога, ибо эта свобода не Богом создана и коренится в небытии». Но как же можно требовать или ждать от человека, что он сделает то, чего и Бог сделать не может? И вообще возможна ли такая победа и в наших и в иных мирах? Может ли кто-нибудь сделать то, чего не может сделать Бог? Бердяев утверждает, что Богочеловек это может сделать. Откуда ему это известно? И почему, если Богу не дано преодолеть не им сотворенную свободу, то Богочеловеку (единосущному Богу) удастся преодолеть тоже не им сотворенную свободу? Какой «гнозис» здесь открывает нам истину? Если полагаться на «знание» с его «возможным» и «невозможным» — то придется сказать о Христе то же, что Бердяев сказал о Боге: не Он сотворил свободу, не Ему ею владеть и править. Но такого испытания «гнозис» не выдерживает. Он присмирел и не решается уже вспомнить о несотворенной темной свободе, которую он называл вестью из иного, неприродного, духовного мира, прорвавшейся к нам, в мир природный.
IIНо это не значит, что гнозис отказался от своих притязаний. Все свои притязания он связывает не с Богом и не с Богочеловеком, а с человеком, принужденным и готовым считаться с «возможностями», установленными без него и не для него. Оттого у Бердяева этика так разрастается и, в конце концов, доминирует над всей его мыслью. Правда, он говори» о «парадоксальной этике» (таков подзаголовок его книги «О назначении человека»).[7] Но этика парадоксальная не перестает быть этикой, т. е. сохраняет и свою самозаконность и повелительность. Об этике Бердяева можно сказать то же, что Дейсен, желая сблизить индусскую мысль с европейской, сказал об этике Канта: в ней человек, как Ding an sich, диктует свои законы человеку эмпирическому. У меня нет места, чтоб распространяться здесь об «этическом идеализме» Фихте. Скажу лишь вкратце, что этика Фихте не только не преодолевает кантовского принципа: поступай так, чтоб в твоем поступке выразился и обязательный принцип поведения для всех, но предполагает его. Оттого и повелительная форма: ты должен быть самим собою. Почему ты должен? От кого исходит распоряжение? Явно, что этика сохраняет за собой право решать, осуществил ли человек свой долг, был ли он «самим собой» в том смысле, в каком это ей желательно — и в первом случае хвалит, во втором — порицает его. Аннибал был бесспорно «самим собой», когда, после неслыханной по жестокости и бесчеловечности осады Сагунта, когда измученное население города сдалось на милость победителя, отдал во власть своих свирепых солдат и город и жителей, хотя знал хорошо, что солдаты разрушат город и перебьют всех до одного человека: мужчин, женщин, стариков, младенцев. И Тит, так же поступивший с Иерусалимом, был самим собой. Оба дышали полной грудью — как истинные победители, — глядя на неистовавших солдат своих. Что же? Бедной этике пришлось им еще воздавать хвалы? Явно, что ни Шеллер, ни Бердяев от нее этого не потребует. В частности, сам Бердяев, несмотря на то, что он неустанно твердит о свободе и возмущается от всей души всякого рода «принуждениями», не может как без воздуха жить без слова «ты должен». Он говорит: «творческое напряжение есть нравственный императив и притом во всех сферах жизни». Или еще: «человек всегда должен поступать индивидуально и индивидуально разрешать нравственную задачу». Ссылаясь на М. Шеллера и книгу Гурвича о Фихте, он заявляет: «быть до конца личностью и личности не изменять… есть абсолютный нравственный императив». Бердяев даже считает нужным регулировать и в мелочах повседневную человеческую жизнь: «когда вы испытываете наслаждение от удовлетворения половой страсти и от еды, вы должны чувствовать в нем отраву… но когда вы испытываете наслаждение, вдыхая горный или морской воздух или аромат лесов — тут нет похоти». То же говорит он и по поводу духовных вожделений, обличая корыстолюбие, честолюбие и т. п. Правда, Бердяев сравнительно снисходителен: Бернард Клервосский или Катерина Сиенская склонны были подозревать и аромат полей. Но не в этом дело. Сейчас нас занимает преимущественно и даже исключительно строго принудительный характер даже парадоксальной этики. «Ты должен» сохраняет у Бердяева ту же независимость и власть, какие ему были присущи с древнейших времен у всех народов и которые были выдвинуты с такой решительностью Кантом в его «Критике практического разума». Конечно, это плохо ладится с общими задачами Бердяева: он хотел бы, чтоб его этика была христианской и принципиально отличалась бы от этики языческой. Такое принципиальное различие он пытается найти в том, что все до-христианские и вне-христианские учения не допускают и не приемлют идеи «личности». Но тут ему приходится «стилизовать», так как такое суждение не соответствует исторической действительности. И греческая философия, и индусская мудрость всегда выдвигали на первый план идею личности и с не меньшей настойчивостью, чем это делает Бердяев. Недаром сам Бердяев в стоицизме видит предварение христианства.[8] И ведь действительно, книги стоиков были любимым чтением ранних христиан. Сенекой зачитывались все, a «de consolatione philosophic» [9] Боэция (хотя Боэций сам был христианином, но он о христианстве молчит) была настольной книгой монахов даже и в средние века. Еще с большим правом можно сказать, что у Платона и Сократа идея личности всегда выдвигалась на первый план. Их этика предполагала, как свое естественное условие, идею личности. Сократ, наследовавший искусство своей матери, повивальной бабки, помогал человеку, в котором рождалась личность. В своей речи, в платоновском «Симпозионе», Алкивиад говорит, что Сократ научил его «стыдиться». То есть различать между его эмпирической индивидуальностью и индивидуальностью высшей — тем именно, что Шеллер и Бердяев, Бёме и Шеллинг называют личностью. Повторяю, во все времена этика ставила себе задачей высвобождение личности из индивидуума. И тут индусская философия нисколько не отстает от европейской. Tat twam asi, как и aham braman asmi (это, т. е. брамин, есть — ты и я есмь брамин) не только не покушаются на идею личности, но весь смысл этих знаменитых изречений именно в том, чтобы оправдать, возвысить и осмыслить личность. Индусы борются лишь против того, что они называют ahamkara (в переводе на русский язык — ячество, эгоизм, эготизм), но ведь Бердяев и сам призывает против ячества все громы.[10] Я думаю, что Бердяев это и без меня знает. Если же он все-таки с такой настойчивостью, во всех своих книгах, присвояет право исключительной собственности на идею личности христианству, то, по-видимому, лишь потому, что открытая ему гнозисом истина о бессилии Бога справиться с тем, что не Богом создано, повелительно требует от него ждать не от Бога, а от человека преодоления царствующего в мире зла. Что сделает человек, то будет сделано: Бог может только благословить человека на подвиг (как и мораль), но уничтожить зло должен сам человек. Соответственно этому основной задачей философии (христианской, по Бердяеву) в первую очередь является теодицея. Надо показать, что Бог не виноват во зле и не хотел его, что зло вошло в мир помимо Бога и уйдет из мира без его помощи: Бог ждет от человека (опять-таки, как и мораль) решающего слова, действия, ответа. Чем больше мысль о бессилии Бога преодолеть зло овладевает Бердяевым, тем сильнее растет и повышается его предостерегающий голос. И тут с особенной ясностью обнаруживается, какие перспективы раскрывает гнозис ищущему и страждущему человечеству. Гнозис порождает теодицею: знающий человек убеждается, что самое главное, самое важное в жизни — это «оправдать Бога». А так как всякое «оправдание Бога» неизбежно связано с признанием, что зло вошло в мир помимо Его воли, то все теодицеи, как бы мало они одна на другую ни походили, принуждены исходить из мысли, что возможности Бога ограниченны, и Лейбниц, называвший наш мир лучшим из возможных миров, в этой формулировке дал наиболее полное выражение тому, что есть самая сущность теодицеи. Так что, несмотря на ядовитые насмешки Вольтера, приходится вместе с Шеллингом признать, что в теодицее своей Лейбниц сделал все, что только может сделать человек, взявший на себя такую рискованную задачу. Теодицея Якова Бёме и следующего ему во всем Бердяева исходит, как мы видели, из «знания» о бессилии Бога к, соответственно этому, сводится к подбору соображений, показывающих, что мир, даже и при бессильном Боге, все-таки хорош. Того больше: мир в значительной степени именно потому хорош, что Бог не всесилен и что, игрою случая, в мире оказалось Ничто, свобода, не Богом созданная, но все же являющаяся источником и необходимым условием всего хорошего, о чем может мечтать человек. Правда, свобода делает возможным зло. Но гнозис стоит на своем: эта возможность есть вовсе не нечто отрицательное, а нечто положительное. Бердяев приходит почти в ужас при мысли, что человек был бы выброшен в мир, в котором не было бы несотворенной свободы, дающей ему возможность делать зло: он был бы «автоматом добра». Он тоже твердо «знает», что павший человек, т. е. человек, познавший и добро и зло, выше невинного человека, ибо ему больше открылось. Даже пред тем, что Бердяев скрещивает философским термином — «диалектика Ивана Карамазова», — т. е. пред рассказом Достоевского об истязаемых детях — гнозис не колеблется: да, все это бесспорно — зло, но Бог тут ничего поделать не может. Приходится отдавать на пытки детей, чтобы не отнять у взрослых возможности выбора между добром и злом и не лишить их премирной свободы. Бердяев слышит Шеллинга:[11] «истинная свобода гармонирует со святой необходимостью, так как дух и сердце, связанные только своим законом, добровольно утверждают то, что необходимо», — но он не слышит вопроса Достоевского: зачем познавать это чертово добро и зло, если это так дорого стоит? Не потому не слышит, что он равнодушный или черствый человек. Наоборот: все писания его свидетельствуют, что он на редкость отзывчив. Но затравленный на глазах у матери генеральскими собаками мальчик — «факт, беспомощно взывающая «Боженька, Боженька» девочка есть тоже «факт». Боженька не может выручить девочку, как Он не может оторвать от мальчика генеральских собак. Это «святая необходимость»: нельзя покуситься на «свободу выбора между добром и злом», величайший дар судьбы человеку. Оттого рассказы Карамазова обозначаются короткими, успокаивающими словами — «гениальная диалектика» и не только не выдвигаются, как у Достоевского, на видное место, но как бы затушевываются. Если бы Бердяев, вместо того чтобы славословить «несотворенную свободу», задержался бы на ужасах, о которых повествует нам устами Карамазова Достоевский, — все радикально изменилось бы. Он проклял бы эту свободу, как прокляли ее Карамазов и Достоевский, проклял бы и самое «познание добра и зла», которое с этой свободой связано и в котором умозрительная философия видит источник высших, духовных ценностей. По меньшей мере ему по крайней мере сообщилось бы подозрение Достоевского о том, что «познание добра и зла» отнюдь не свидетельствует о совершенстве и возвышении человека, что в нем нужно видеть падение и падение роковое — то, что выразил Достоевский (очевидно под действием рассказа книги Бытия о грехопадении) в словах «познавать чертово добро и зло». Но повторяю, Бердяев этого не делает, не может сделать: гнозис крепко держит его в своих цепких руках и не выпускает. С «фактами» нельзя спорить, с ними ничего не поделаешь: мальчика растерзали генеральские псы, девочку замучили изуверы родители. И Бог их не защитил: явно, что не мог. И если мы хотим «оправдать Бога» — у нас есть лишь один выход: все свои умственные и нравственные силы сосредоточить на том, чтобы доказать невозможность вмешательства для Бога и сверх того, чтобы убедить себя и других, что эта невозможность хороша. Чтобы генерал был свободен, необходимо («святая необходимость» Шеллинга), чтобы мальчик, отданный им на растерзание псам, был беззащитен. Мы видим, что теодицея Бердяева и тех, у кого он учился, идет тем же путем, каким шла мудрость у всех людей во все времена. Стоик Клеант выразил это в словах, приобретших широкую известность благодаря Сенеке и Цицерону: fata volentem ducunt, nolentem trahunt. Мудрость никогда не шла за пределы такой свободы, которая выражается в радостной готовности покориться неизбежному, ибо мудрость всегда опиралась на гнозис, и там, где гнозис открывал «необходимость», мудрость безропотно воздвигала свое «ты должен» и в этом видела сущность свободы. Свобода в философии и античной, и средневековой, и новейшей не есть свобода распоряжаться действительностью, а лишь свобода так или иначе расценивать ее: кто покоряется необходимости, того судьба ведет, кто не покоряется, кто принимает необходимость невольно, того она тащит насильно. На этом же зиждется автономная мораль.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Николай Бердяев (Гнозис и экзистенциальная философия)"
Книги похожие на "Николай Бердяев (Гнозис и экзистенциальная философия)" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Лев Шестов - Николай Бердяев (Гнозис и экзистенциальная философия)"
Отзывы читателей о книге "Николай Бердяев (Гнозис и экзистенциальная философия)", комментарии и мнения людей о произведении.