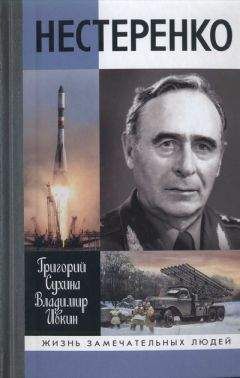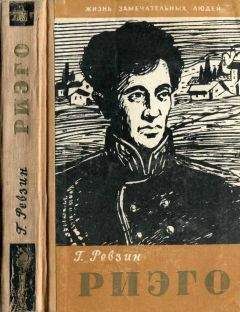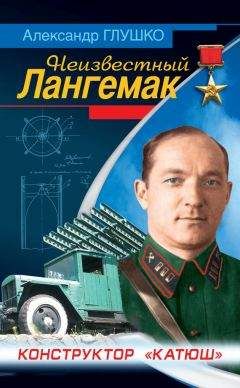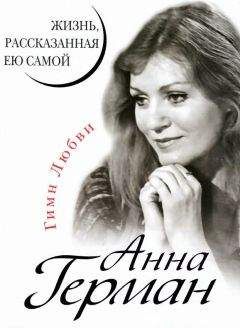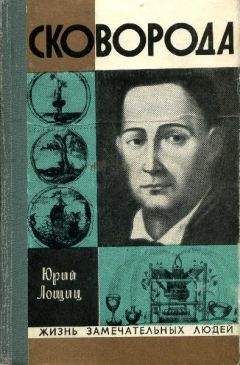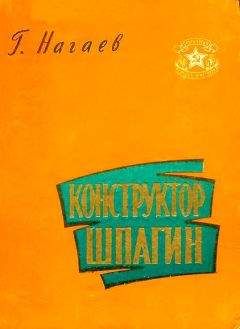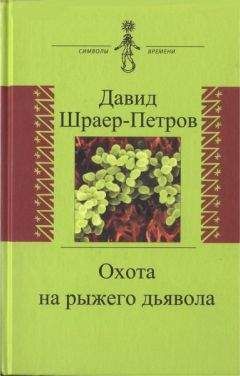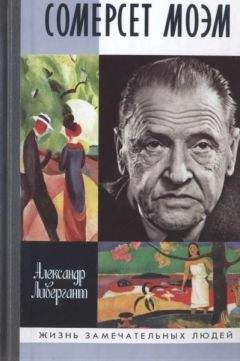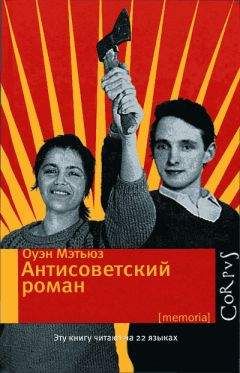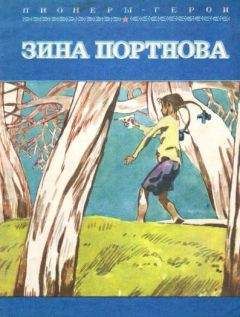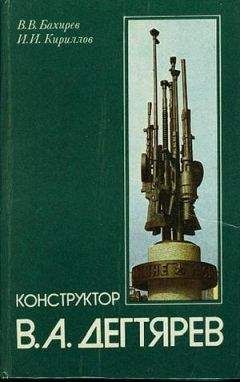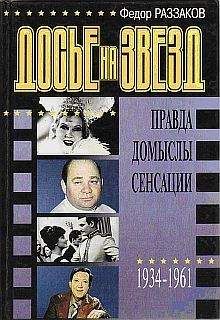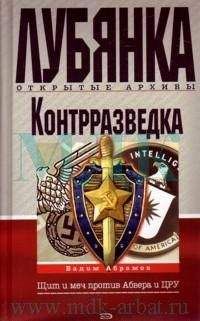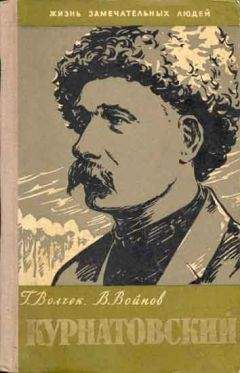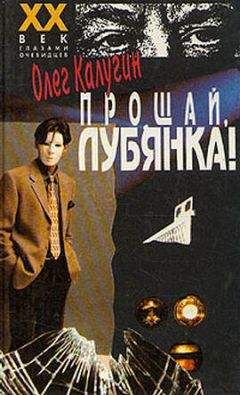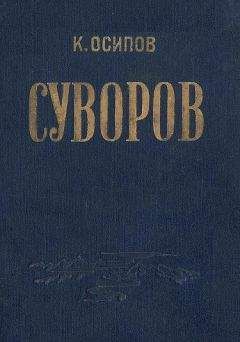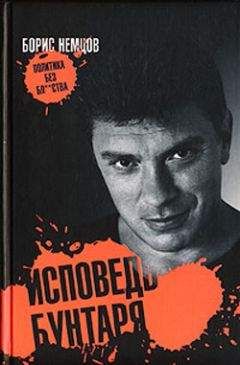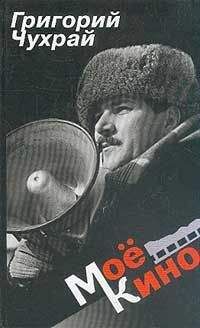Григорий Кисунько - Секретная зона: Исповедь генерального конструктора
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Секретная зона: Исповедь генерального конструктора"
Описание и краткое содержание "Секретная зона: Исповедь генерального конструктора" читать бесплатно онлайн.
Мало кто знает, что еще в 1961 году у нас был успешно испытан первый образец противоракетной системы, из которой могла бы вырасти мощная и надежная система ПРО для всей нашей страны. Почему спустя тридцать пять лет мы так и не имеем ее, рассказал в своих воспоминаниях генеральный конструктор этой системы Григорий Васильевич Кисунько.
Сын «врага народа», а в сущности просто рабочего-машиниста, расстрелянного в 1938 году якобы за подготовку вооруженного восстания против советской власти, он с юных лет жил, учился, воевал и работал под тяжким гнетом «разоблачения», не теряя при этом достоинства, принципиальности и не жалея здоровья и сил на создание надежного оружия для защиты своей Родины от ракетно-ядерного нападения.
Из этой книги читатель узнает не только о трудной судьбе строго засекреченного в недавнем прошлом талантливого ученого и организатора, но и много интересного об известных и малоизвестных людях, с которыми он работал и встречался — в том числе и в кремлевских кабинетах, — Сталине, Берия, Рябикове, Ванникове, Куксенко, Королеве, Устинове и других, ставших неотъемлемой частью нашей истории.
А может быть, он, как зам. главного конструктора, видит во мне соперника, навострившегося перебежать ему дорогу, и старается сбить в глазах начальства мое реноме как перспективного молодого доктора наук? Но я терпеть не могу — быть чьим-то замом. Лучше маленький сам, чем большой зам — причем явно исполнительского толка в структуре, где все принципиальные вопросы решаются главными конструкторами напрямую с теоретиками и немецкими специалистами.
К тому же я не из того замеса, чтобы кому-то перебегать дорогу, устраивать подвохи и интриги. К сожалению, я не умею даже отбиваться от подстраиваемых мне пакостей.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
А потом заморский атом
под прицелом нас держал,
городам и нашим хатам
супербомбой угрожал.
В кабинете Павла Николаевича, куда я был вызван, уже находились Расплетин, Томашевич со своим замом Зыриным и Заксон. На большом столе в стороне от письменного стола Павла Николаевича были разложены ватманы с набросками общего вида антенн станции Б-200. У грузного, шароподобного, но, несмотря на это, необыкновенно подвижного Заксона был вид молодого разъярившегося бычка, только что отбодавшегося от нападавших на него волков и приготовившегося к отражению очередной их атаки. В передышке он нервными движениями пальцев протирал платком толстые стекла массивных очков, то и дело придыхая на них, чтобы запотели. Его сильно близорукие глаза учащенно мигали, словно бы сигнализируя хозяину о пропаже очков.
— Вот Михаил Борисович отказывается подписать общие виды антенн, — сказал Зырин, кивая на Заксона. — И это несмотря на то, что ватманы уже подписаны Александром Андреевичем Расплетиным. Нам надо успеть к сроку выпустить рабочие чертежи, а общие виды представителями вашего отдела еще не согласованы.
— Такие общие виды ни Михаил Борисович, ни я не подпишем. Мы можем гарантировать требуемую диаграмму излучения только при плоской форме излучающих раскрывов, а вы предлагаете их дугообразными.
— Зато, — настаивал Зырин, — в нашем варианте роторы антенн будут совершенно круглыми, вроде огромных точильных кругов, и вращаться они будут практически без сопротивления воздуха. А в вашем варианте вместо кругов — треугольники. Два треугольных лопуха, размером каждый с двухэтажный дом, насаженные на общий вал, при вращении со скоростью шестьсот оборотов в минуту создадут такой ветродуй… — Зырин, выпалив эти слова скорым говорком, замолк, считая, что вопрос с ветродуем яснее ясного.
— Если они так боятся ветра, — сказал Заксон, — то я уже предлагал дополнить треугольник до окружности неметаллическими накладками в виде сегментов.
— Но мы не знаем таких неметаллических материалов, существуют ли они вообще, — не сдавался Зырин.
— На это я заметил, что обязанность конструкторов — знать все конструкционные материалы, в том числе неметаллические.
— Павел Николаевич, эти споры у нас идут давно, — вмешался Томашевич, — и мы ничего нового друг другу не скажем. Тут нужно чье-то окончательное решение. Может быть, ваше лично.
— Антенну с треугольными роторами мы проектировать отказываемся, — не унимался Зырин. — Пусть такую конструкцию передают другому отделу, а мы, слава Богу, не безработные. К тому же у нас из-за ваших антенн может сорваться наша серьезная основная работа, мы напишем об этом докладную на имя Серго Лаврентьевича.
Зырин явно намекал на разрабатываемый отделом № 32 вариант зенитной ракеты, особо опекаемой обоими главными конструкторами.
Неизвестно, подействовала ли на Павла Николаевича угроза срыва работ по зенитной ракете, или ему просто надоела вся эта перепалка между конструкторами и антенщиками, но он сказал:
— Хорошо, примем решение. Пусть компромиссные обводы раскрывов на роторах антенн назначит Александр Андреевич, мой заместитель, и все здесь присутствующие подпишут общие виды антенн в предложенном им варианте.
— Я предлагаю контуры раскрывов провести посередине меж окружностью, предлагаемой конструкторами, и вписанным треугольником, который предлагают антенщики. Тогда треугольник получится с выпукло-округленными сторонами, — почти как круг.
«Компромиссный» контур был тут же прорисован, с ним согласились конструкторы, но мы с Заксоном решительно возражали. Правда, мы не могли сказать, как повлияет искривление раскрыва антенны на ее характеристики. Такие варианты нигде никем не применялись, не было методик их расчета, и для их оценки необходим весьма трудоемкий эксперимент на макетном образце антенной секции.
— Вот и проэкспериментируем на первом образце антенны, — заметил на это Павел Николаевич.
— Но на чертежах, — добавил Расплетин, — никаких оговорок по этому вопросу не должно быть, ибо мы должны запускать серийное производство, не дожидаясь экспериментов.
Мои и Заксона возражения выглядели как упрямство, хотя мы предупреждали, что изделия, запущенные в производство без экспериментальной проверки, все равно придется переделывать, а может быть, и выбрасывать. Но, в конце концов, «упрямцев» уломали, общие виды были подписаны.
«Компромиссное» решение отомстило за себя сразу же после монтажа и проверки по самолетам первого экспериментального комплекта антенн. Проверку проводили инженеры из расплетинского отдела, но результаты хранились в тайне от меня и Заксона. Нас пригласили только на официальное обсуждение у Павла Николаевича. Оказалось, что антенна со скругленным раскрывом формирует веерный луч с большими искажениями, возрастающими от центрального направления веера к его краям. Вздутые части веерного луча на его краях докладчик с ухмылкой назвал «заксоновскими ушами», и вообще, во всем докладе сквозил душок едкого злорадства в адрес антенщиков. Было ясно, что при такой форме антенного луча будет падать дальность действия и точность определения координат, особенно на краях рабочего сектора станции. После окончания доклада взоры всех присутствующих обратились ко мне и Заксону.
— Что и требовалось доказать, — спокойно, с улыбочкой, проронил Заксон. — Теперь уже всем должно быть ясно, что вместо закругленных раскрывов надо делать плоские.
— И вы это так спокойно говорите? — возмутился Расплетин.
— А я уже достаточно покипятился, когда старался доказывать это раньше, в том числе и вам.
— Что будем делать? — спокойно, будто не замечая перепалки, спросил Павел Николаевич, обращаясь взглядом то ко мне, то к Заксону.
Я ответил, что лучше всего было бы вернуться к плоским раскрывам, как предлагает Михаил Борисович.
— Но тогда придется выбросить и конструкторский и производственный задел. Чтобы сохранить задел, — конечно, с доработками, — лучше всего на каждом дуговом раскрыве как бы срезать по хорде среднюю часть дуги, а по краям сделать накладки — «законцовки». Тогда каждый ротор будет иметь форму обычного правильного треугольника, но со срезанными углами в пределах существующих радиальных габаритов ротора.
— Черт знает что такое! — выпалил Расплетин. — На заводах уже столько наклепали таких антенн — и все это опять переделывать? Это хуже, чем выбросить.
— Что хуже, а что лучше, — ответил я, — это надо решать с конструкторами и технологами. Но на этот раз нам уже никак нельзя промахнуться. Я прошу, Павел Николаевич, дать нам одну из долек любого ротора на полное «раскурочивание» для экспериментальной отработки «законцовок» с проверкой на заводском антенном полигоне. И все это делать прямо на заводе, с участием конструкторов наших и заводских, с переселением туда одной из наших лабораторий и, конечно же, Михаила Борисовича.
— Это само собой… Мы привычные, — разведя руками и добродушно улыбаясь, ответил Заксон.
Я понимал, что под маской добродушной улыбки у него все кипело внутри. Как, впрочем, и у меня. Оба мы чувствовали себя и свою антенную профессию отомщенными за волевые «компромиссные» решения дилетантов. Но эти чувства были далеки от злорадства, ибо слишком дорогой оказалась цена отмщения. Во всяком случае, у меня закипала злость на самого себя за допущенное соглашательство с теми, кто силой навязали мне и Заксону «компромиссный вариант», а теперь не прочь поострить насчет «заксоновских ушей». Невольно вспомнились слова Вольмана: «Здесь на тебя будут орать неучи, стараться ездить на тебе всякие ловкачи, да еще и погонять…»
Лабораторно-макетные работы по законцовкам мы организовали сразу на двух антенных полигонах круглосуточно. Основные силы сосредоточены на полигоне серийного завода под руководством Заксона, часть экспериментов велась на антенном полигоне КБ-1 под моим постоянным присмотром. Ребята из отдела — инженеры, техники, механики — посменно работают и тут же отдыхают, не выходя с охраняемой полигонной территории. Мы с Заксоном приспособились регулярно бывать на площадках друг у друга, знакомиться с результатами, договариваться об уточнениях и взаимоувязке планов работ, и каждый на своей площадке — следить за передачей и уточнениями заданий от смены к смене и за возникающими в работе «утыками». А «утыков» — хоть отбавляй, и разгадать их бывает крайне трудно. Нередки бывали ошибки измерений от усталости самих ребят, работавших круглосуточно, а отдыхавших урывками. Пробовали каждое измерение повторять двумя, тремя лицами, и тогда возникала проблема: как отличить ошибки человека от инструментальных ошибок при измерениях? Однажды несколько дней потратили на разгадку странных результатов антенных измерений, пока кто-то не обратил внимание на то, что непонятные всплески в диаграмме антенны получаются с направлений, где находится заводской забор. Но откуда такое непостоянство в положениях этих всплесков? Оказалось, что это зависит от того, где находится во время измерений часовой с винтовкой, совершающий обход вдоль забора. Значит, на результаты измерений влияют отражения радиоизлучений от металлических частей винтовки.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Секретная зона: Исповедь генерального конструктора"
Книги похожие на "Секретная зона: Исповедь генерального конструктора" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Григорий Кисунько - Секретная зона: Исповедь генерального конструктора"
Отзывы читателей о книге "Секретная зона: Исповедь генерального конструктора", комментарии и мнения людей о произведении.