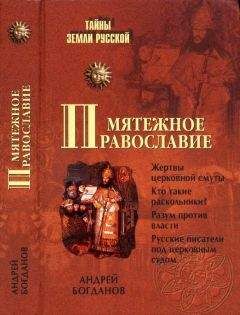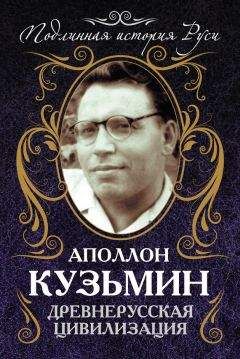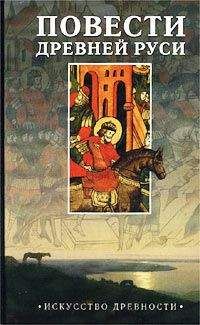Андрей Никитин - «Повесть временных лет» как исторический источник

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "«Повесть временных лет» как исторический источник"
Описание и краткое содержание "«Повесть временных лет» как исторический источник" читать бесплатно онлайн.
В книге рассматриваются вопросы достоверности сведений древнейших русских летописей, используемых для реконструкции событий ранних веков русской истории.
Первая часть посвящена анализу структуры, хронологии, терминологии и стилистики «Повести временных лет», вопросам ее авторства, количеству редакций, их объемов, датировок и вероятного времени сложения окончательного текста.
Во второй части исследуются спорные вопросы текстологии и атрибуции памятников русской письменности и искусства XII–XV вв. (Ипатьевская летопись, «Слово о полку Игореве», «Задонщина», «Троица» Андрея Рублева), а также ряда событий истории XIV–XVI вв. (Куликовская битва, второй брак Василия III, опричнина Ивана IV).
Книга рассчитана на специалистов по истории России, историков литературы, преподавателей вузов, студентов, а также на широкий круг читателей, интересующихся этими вопросами.
Рекомендуется в качестве пособия для семинарских занятий.
Книга содержит таблицы и inline-картинки.
Столь же недостоверным оказывается и топография могилы Святополка, испомещение места его смерти «межи чяхы и ляхы», поскольку здесь автором использован сюжет, связанный с еще одним Святополком, на этот раз — Святополком моравским, к слову сказать, хорошо известным русским книжникам, поскольку он несколько раз упомянут ПВЛ в новелле о славянской грамоте [Ип., 18–19]. Этот князь, неожиданно для своих сподвижников, бежал с поля битвы и скрылся «межи чяхы и ляхы» в обители пустынников-еремитов, о чем сообщал читателям в своей хронике Козьма Пражский[573].
О дальнейшей судьбе Святополка и о времени ухода Болеслава из Киева Титмар ничего не пишет, так как всё это произошло уже после смерти хрониста, и единственным сообщением об этих событиях в ПВЛ оказывается заключительная фраза ст. 6527/1018 г., что по уходе Болеслава «поиде Ярославъ на Святополка, и победи Ярославъ Святополка, и бежа Святополкъ вь печенегы» [Ип., 131]. Однако прежде, чем окончательно отказаться от выяснения судьбы Святополка, который, как оказывается, физически не мог исполнить то, что ему приписывает легенда о Борисе и Глебе, рассмотрим фактические данные, которые содержат об этих князьях-мучениках «Сказание…» и ПВЛ.
Как ни странно, таких данных нет, кроме ничем не подтверждаемого сообщения, что их матерью была некая «болгарыня», при «раздаче уделов» Борису был дан Ростов, а Глебу — Муром, но к моменту болезни Владимира Борис по какой-то причине прибыл в Киев. Ничего больше о них не известно[574]. Еще более странно, как отмечали все исследователи, выглядят их передвижения, в первую очередь, Глеба, который, чтобы попасть в Киев из Мурома (на Оке), зачем-то идет в противоположную сторону, на Волгу, где «на поле» (по-видимому, здесь сделана попытка приурочить событие к Угличу, называвшемуся ранее «Углече поле») у него «спотыкается конь» (по другой версии конь спотыкается еще дальше, на устье Тьмаки, т. е. в Твери), затем он попадает «к Смоленску», где оказывается уже «в корабли» (вариант — «в носаде») близ устья р. Смядыни. Подобный маршрут мог быть придуман только человеком, не представляющим действительное местоположение этих пунктов и путей, связывавших тот же Муром на Оке с Киевом на Днепре через Чернигов, если только для своего сочинения он не использовал текст, содержавший указанные топонимы, расположенные, однако, в иной географической реальности, из которой и выплыл неожиданный «корабль».
Не менее удивительно выглядят и действия Святополка в отношении Бориса. Чтобы найти доверенных исполнителей задуманного убийства, он отправляется из Киева в Вышгород, т. е. в противоположную от Альты сторону, где заручается поддержкой нескольких вышгородцев. Те отправляются за 100 с лишним километров на устье Альты, впадающей в Трубеж, т. е. едут мимо Киева, затем, совершив убийство, везут тело Бориса опять мимо Киева, чтобы похоронить его именно в Вышгороде. Последнее может быть объяснено только тем обстоятельством, что Борис действительно был похоронен в Вышгороде, и именно сюда легенда должна была привезти его тело «с Альты», хотя естественнее всего было его там и похоронить. Более того, обнаружив, что Борис еще жив (?!), убийцы сообщают об этом Святополку (?!), а тот посылает «двух варягов», чтобы прикончить Бориса. Более нелепой ситуации нельзя придумать, и здесь не спасают расчеты А. А. Шахматова, пытавшегося примирить изложенные факты догадкой, что в действительности Борис был убит не на Альте, а «на Дорогожиче, на пути из Киева в Вышегород», где потом «находилась церковь св. Бориса и Глеба», а «варяги» были «заимствованы сочинителем из какой-то легенды»[575].
В подлинности описанного не убеждают и имена упомянутых «Сказанием…» лиц — вышгородцев Путьши, Тальца, Еловича, Ляшко, расправившихся с Борисом, и Горясера с неким «торчином», поваром Глеба, который его «зареза, как агня», поскольку ни до событий, ни после их имена нигде не встречаются. Столь же странно обращение Святополка для исполнения преступного замысла к обитателям Вышгорода, который становится затем центром культа новых мучеников, тем более, что «Сказание…», как я уже писал, в своем настоящем виде сложилось вряд ли ранее 1115 г., то есть после смерти другого Святополка — Святополка Изяславича.
Последнее обстоятельство можно было бы посчитать случайностью, если бы не удивительные совпадения, касающиеся отражения деятельности Святополка Изяславича в ПВЛ и Святополка Владимировича в «Сказании…». Так оказывается, что князя Василька (теребовльского) слепил ножом «торчин, именемь Береньдеи, овчюхъ Святополчь» [Ип., 235], сразу заставляющий вспомнить другого «торчина», повара Глеба, который его «зареза, аки агня» (вариант: «аки овчю»). Воеводой Святополка Изяславича в ПВЛ неоднократно назван киевский тысяцкий Путята, чей двор по смерти Святополка был подвергнут погрому и разорению («кияни же разъграбиша дворъ Путятинъ, тысячьского, идоша на жиды и разграбиша я» [Ип., 275]) и чье имя естественно ассоциируется с именем предводителя вышгородских убийц Бориса — «Путьша». При этом в «Сказании о чудесах христовых страстотерпцев Романа и Давида», ставших второй частью сочинения «Сказание и страсть, и похвала…», в рассказе о строительстве каменной церкви в Вышгороде, законченной только в 1115 г., многозначительно говорится, что при Святополке Изяславиче «бысть забвение о церкви сей»[576], а одно из самых пространных чудес связано с двумя «мужами», невинно заточенными этим Святополком, которых чудесным образом освободили Борис и Глеб[577].
Случайны ли такие совпадения? Не думаю. Сын Изяслава Ярославича, пришедший на киевский престол из Турова по праву старшинства, судя по всему, не пользовался любовью киян и авторов ПВЛ. Вокняжившись в Киеве, он «всадил в погреб» половецких послов, пришедших к нему для заключения мира, тем самым развязав кровопролитную войну между Степью и Русью, закончившуюся полным разгромом русских князей, гибелью князя Ростислава Всеволодовича на р. Стугне во время бегства [Ип., 209–213] и разорением всей Киевской земли. Новое обострение отношений между Степью и Русью оказалось связано опять со Святополком Изяславичем, который потребовал от Владимира Всеволодовича (Мономаха) избиения «Итларевой чади» и Китаня с дружиной [Ип., 217–218]. Но главным его преступлением стало соучастие с Давыдом Игоревичем в ослеплении Василька теребовльского — события, вызвавшего возмущение в князьях вплоть до попытки изгнать Святополка из Киева [Ип.,237].
Самое замечательное, что при этом (если верить автору «хроники княжения Святополка») князья заявили, что «сего не было есть у Русьскои земли ни при дедехъ наших, ни при отцихъ нашихъ, такого зла» [Ип., 236]. Естественно задаться вопросом: разве ни князья, ни авторы этих новелл, современники не только правления Святополка Изяславича, но и становления культа Бориса и Глеба, ничего не знали о другом Святополке, который как раз «уверже ножь» в дедов современных князей? В последнее можно поверить только в том случае, если прославление новоявленных мучеников в 1072 г. не считало их жертвами братоубийственной резни, которая, если следовать ПВЛ, началась Ярополком, была продолжена Владимиром и завершена Ярославом. Между тем, согласно рассказу об ослеплении Василька, первым «Святополком Окаянным» оказывается Святополк Изяславич, а вовсе не его двоюродный дед, на память которого только в первой четверти XII в. перенесена была та неприязнь, которую вызывал он сам у своих современников. Отсюда и скрытый подтекст в рассказе о его княжении, и те реалии конца XI — начала XII вв., которые мы находим в описании событий первой четверти XI в. («торчин», «Путята», «вышгородцы»), и выбор «братоубийцы», имя которого оказалось табуировано только в XII в., о чем почему-то не подумал М. Ф. Котляр, попытавшийся опровергнуть легенду ПВЛ о «Святополке Окаянном», повторив аргументы своих предшественников, Н. Н. Ильина и М. Х. Алешковского[578].
Стоит также напомнить, что «повар торчин», зарезавший Глеба, для 1016 г. оказывается таким же безусловным анахронизмом, как «варяги», поскольку сами торки, гонимые половцами, появились в окрестностях Киева лишь в середине 50-х гг. XI в., а «подручными» киевских князей стали только полвека спустя. Так, первое упоминание о торках, действующих заодно с дружинниками Владимира Всеволодовича, в ПВЛ находится под 6603/1095 г. в рассказе об убийстве половецких ханов Китаня и Итларя [Ип., 218]. Тем самым, в рассказе о смерти мучеников снова проявляется ситуация конца XI — начала XII века, использованная для воссоздания событий второго десятилетия XI в.
Такое наблюдение подтверждает и тот беспрецедентный в истории факт, вызывавший недоумение у всех исследователей данного сюжета, что имя «Святополк» на протяжении XI и XII вв. продолжает употребляться потомками Ярослава Владимировича (кроме Святополка I, летописью отмечены Святополк Изяславич (1050–1113), сын Изяслава Ярославича; Святополк Мстиславич (до 1132–1154), сын Мстислава Владимировича; Святополк Юрьевич (до 1157–1190), сын Юрия Ярославича, князя туровского; наконец, Святополк, боярин галичский, упоминаемый под 6681/1173 г.), и получает одиозный оттенок только к концу XII в. по мере распространения «Сказания…», ПВЛ и утверждения «борисоглебовского» культа, сменившего ранее существовавший «глебоборисовский»[579]. Другими словами, до конца XI в. и даже позднее, пока происходило формирование культа Бориса и Глеба (а первоначально — Глеба и Бориса, как убедительно показал М. Х. Алешковский[580]), сначала чюдотворцев-целителей и лишь затем преобразованных в небесных патронов русских князей-воителей, имя Святополка не было предано проклятию и табуированию.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "«Повесть временных лет» как исторический источник"
Книги похожие на "«Повесть временных лет» как исторический источник" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Андрей Никитин - «Повесть временных лет» как исторический источник"
Отзывы читателей о книге "«Повесть временных лет» как исторический источник", комментарии и мнения людей о произведении.