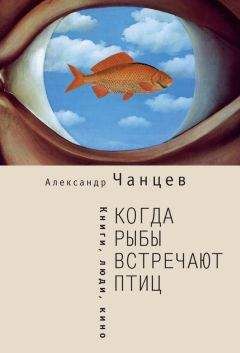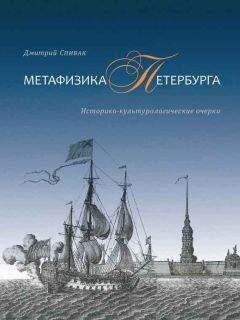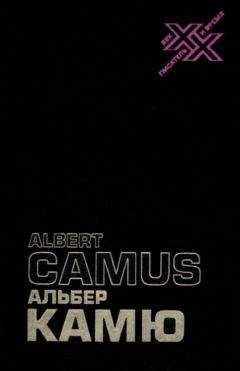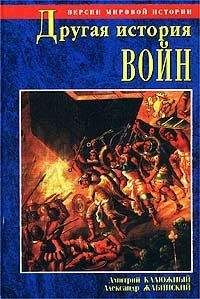Дмитрий Быков - Статьи из газеты «Известия»
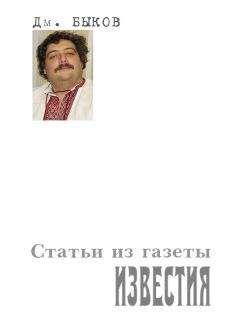
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Статьи из газеты «Известия»"
Описание и краткое содержание "Статьи из газеты «Известия»" читать бесплатно онлайн.
C человеком можно сделать все, и он не удивится. Если Герман Греф побежит по улицам Петербурга с олимпийским факелом — стоит ли шутить, что Любовь Слиска возглавит нашу сборную по художественной гимнастике? Когда юмор везде, шутить не над чем. Даже «Комеди клаб» и «Нашу Рашу» с 1 апреля этого года прикрывают по рекомендации Общественной палаты: заметьте, не за низкопробность, а за кощунственное издевательство над традиционными духовными ценностями России. Что, испугались? Глазки-то забегали? Шутка! Если утробно, то пока можно. Гы-гык.
1 апреля 2008 года
Опыт о правде и неправде
Книга Анта Скаландиса (Антона Молчанова) «Стругацкие» — биография великого авторского дуэта, чья слава в России сравнима лишь с булгаковской, — стала недоставаема сразу после выхода, приуроченного к очередному конгрессу российских фантастов «Роскон», и наводит на размышления о триумфе жанра. Победа фантастики над реализмом — вплоть до вытеснения последнего из большинства премиальных списков — наметилась давно. Гигантская роль фантастики в современном мире — не только в литературе, а и в политике, футурологии, социологии — впервые обозначилась после смерти Лема: вдруг оказалось — почти все нынешние вершители мировых судеб прислушивались к его гипотезам и росли на мрачных фантасмагориях. Недавняя смерть сэра Артура Кларка породила такую же волну признаний: оказывается, он сформировал мировоззрение (и эстетику!) нескольких поколений, подал великие и безумные идеи сотням физиков, предсказал космические лифты и спутниковую связь, сформулировал этические императивы науки будущего…
В апреле Борис Стругацкий отпраздновал 75-летие, которое он, слава богу, встречает во всеоружии: продолжая руководить журналом и семинаром, и масштаб празднества поразил не столько количеством, сколько качеством юбилейных публикаций: оказывается, у Стругацких нет соперников по универсальности воздействия. Иной любитель чтения — в позднем СССР их хватало и среди технократов, и среди гуманитариев — мог пройти мимо Трифонова, не увлечься Искандером и даже не принять Солженицына, но трудно найти человека, который бы смог на середине отложить книгу Стругацких и не вернуться к ней потом для благодарного, хоть бы и полемического перечитывания.
Одновременно с юбилеем БНС, воздержавшегося по обыкновению от публичных торжеств, в Лондоне прошла традиционная книжная ярмарка, и желающих подискутировать о судьбах фантастики (включая Пелевина, Петрушевскую и Толстую) не вместил русский стенд. А поди затащи кого-нибудь поспорить о судьбах социального реализма.
Короче, фантастика выиграла. Осталось понять — почему.
Ее долго считали маргинальной, несерьезной, чуть ли не детской. Она выпрыгнула из своей резервации и заполнила чуть не все пространство. Это касается самых разных поджанров — от антиутопий до конспирологических детективов, от космических опер до кафкианских гротесков. Она завоевала топ-позиции в списках бестселлеров, проникла в кино и стала сюжетной основой блокбастеров, переняла прогностические функции у СМИ (ибо там цензура, а фантастика давно насобачилась ее обходить). Она стала определять лицо национальных литератур — самыми читаемыми прозаиками Киева уже который год остаются Марина и Сергей Дяченко (они же сценаристы «Обитаемого острова» в постановке Ф.Бондарчука). От них ненамного отстают Громов и Ладыженский, творящие под псевдонимом Г.Л.Олди. Кстати, своих начинает уважать и Россия: Cоюз красноярских писателей впервые в истории российских творческих союзов возглавил фантаст Михаил Успенский, — вероятно, самый известный и титулованный романист на всю Сибирь, если не брать в расчет А. Бушкова, творящего все-таки в другом жанре. Это Успенский, кстати, сказал как-то, что реализм — лишь уродливая литературная мода, по недоразумению задержавшаяся на лишние сто лет, и если бы в русских деревнях долгими зимами сказочник-бахарь принялся бы расписывать крестьянам их суровую трудовую жизнь да то, как деспот пирует в роскошном дворце, ему бы наваляли по шее, и дело с концом.
Проще всего объяснить триумф фантастики кризисом прочей литературы. Некоторый кризис имеет место — мейнстрим оказался неустойчив перед новыми болезнями и поветриями. Повеяло постмодерном — и из «серьезной прозы» исчезли сюжеты, конфликты, динамика. Настал рынок — мейнстрим принялся неумело играть в желтизну, неловко развратничать и постреливать. Запахло державностью — и литература среднего вкуса для среднего класса стала наливаться тяжелым, вязким пафосом. Всех этих эпидемий фантастика (в большинстве образцов) счастливо избежала, а державность началась там давно (скажем, у В. Рыбакова) и была исполнена на порядок качественней. Фантастику не тронул ни постмодерн, ни рынок — цитатна она была всегда, в расчете на умного и опытного читателя, а увлекательной обязана быть по определению. Ей жиреть не положено — нужен крепкий сюжетный мускул и ни грамма лишнего веса. В этом жанре выживают те, кто умеет рассказывать истории с неочевидным финалом, и чтоб по ходу обязательно несколько раз смешно, а все остальное время страшно.
Но это объяснение недостаточное: у нас мейнстрим ослабел, а во всем мире социальная проза, нон-фикшн и семейные истории продолжают оставаться на уровне, никакие литературные моды их не портят. Тем не менее фантастика и там переживает бум, «Гарри Поттер» тому порукой. Одно время казалось: дело именно в установке на детское восприятие — в «Гадких лебедях» уже было предсказано, что возрождение (или гибель) человечества придет через детей. Тот, кто завоюет их, подчинит будущее. Фантастика нашла путь к будущему: стала по преимуществу детской. Мне и поныне встречаются подростки, к 12 годам прочитавшие всех Стругацких, освоившие Хайнлайна и Саймака, наизусть цитирующие Ефремова и Булычева. Предыдущие поколения этих детей выросли, состоялись и запомнили всех, кто помогал в духовном росте. Их детство совпало с наивысшим расцветом фантастики — 60-70-ми годами, когда у фантастов искали ответа на мировые вопросы. Что удивительно — находили. Иногда кажется, что на многие шалости фантастического цеха цензура смотрела сквозь пальцы: какой с них спрос — чтиво… Это чтиво со временем взяло и упразднило советскую власть. Были и прочие обстоятельства, но решающим оказалось то, что пришли люди, выросшие на «Полдне», «Попытке к бегству» и «Пикнике на обочине», не говоря про Уиндэма, Азимова, Брэдбери, Гансовского и Михайлова. Хорошо это или плохо — отдельный вопрос; но мокрецы завоевали детей и разрушили город, и нынешнее засилье тупости и попсы — часть их тактики. Беда не в том, что мокрецы жестоки, — мало Баневых, готовых им противостоять.
Но, думаю, и эта причина не главная: не дети определяют литературную конъюнктуру. Дело в том, что традиционный реализм обращается как раз к тому, что уводит от настоящей жизни: социальному неравенству, бедности, богатству, зависти, болезням, старости, бюрократизму, страстишкам — словом, к быту. А все это отнюдь не является жизнью — это формы бегства от нее. Жизнь — это великие вопросы и противостояния, страсти и чудеса, герои и злодеи; и фантастика обращается к ним напрямую, презрительно игнорируя мелочи вроде «где работает» и «что ест». Чем и отличается от мейнстрима (говорю о лучших образцах жанра, а не о примитивных эпигонах, пишущих те же детективы или братковско-производственные романы с заменой «Бентли» на звездолет, а биты на бластер). Фантастика обращена к самой сердцевине жизни, к тому, что и делает ее жизнью, и очищает реальность от шелухи, которую многие как раз и склонны принимать за правду. И тогда жизнь немедленно предстает чудом — каковым и является. И читатель, как показывает опыт, охотнее верит этому чуду, чем глубоко правдивым историям о борьбе честной девушки за место на Рублевке или о похудании офисного планктона.
29 апреля 2008 года
Вещество Победы
Мой дед, прошедший всю войну и неохотно отпущенный в запас в 1947 году в звании майора артиллерии и должности помпотеха полка, был человеком легким, веселым и необыкновенно надежным. В критических обстоятельствах я замечал у него на лице усмешечку, хорошо знакомую ветеранским детям и внукам: я видывал ее и у Василя Быкова, рассказывавшего, как его травят наймиты Лукашенко, и у Виктора Астафьева, которого тоже травили былые товарищи по почвенному лагерю, и у Булата Окуджавы, на котором после 1993 года отыгрались за всех прочих подписантов «письма сорока двух». Усмешка эта обозначала не то чтобы вечное «прорвемся», но скорее бесконечное презрение к обстоятельствам, сознание их ничтожности. Не то чтобы они казались ничтожными на фоне фронтового опыта — нет, я уверен, что и Быков, и Окуджава, и Астафьев, и дед на фронте усмехались точно так же. К опасности нельзя привыкнуть — но ее можно презирать. Война давала знание об абсолютной цене вещей — то внутреннее спокойствие, с высоты которого бытовые проблемы просто неразличимы, а улюлюканье предстает комариным писком.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Статьи из газеты «Известия»"
Книги похожие на "Статьи из газеты «Известия»" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Дмитрий Быков - Статьи из газеты «Известия»"
Отзывы читателей о книге "Статьи из газеты «Известия»", комментарии и мнения людей о произведении.