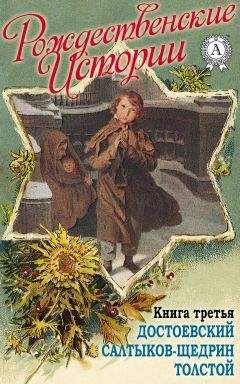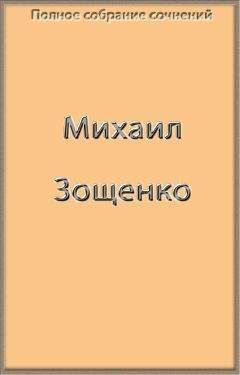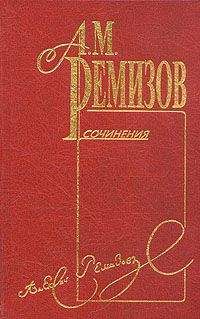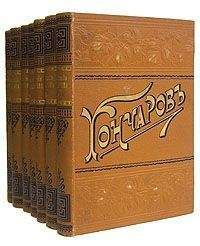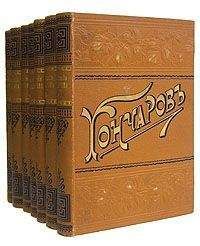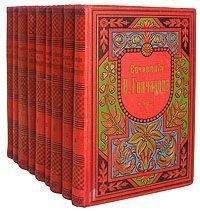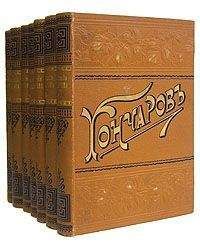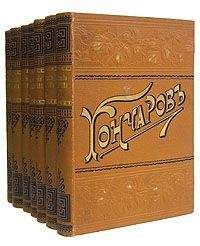Михаил Салтыков-Щедрин - Том 11. Благонамеренные речи

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Том 11. Благонамеренные речи"
Описание и краткое содержание "Том 11. Благонамеренные речи" читать бесплатно онлайн.
Настоящее Собрание сочинений и писем Салтыкова-Щедрина, в котором критически использованы опыт и материалы предыдущего издания, осуществляется с учетом новейших достижений советского щедриноведения. Собрание является наиболее полным из всех существующих и включает в себя все известные в настоящее время произведения писателя, как законченные, так и незавершенные.
«Благонамеренные речи» формировались поначалу как публицистический, журнальный цикл. Этим объясняется как динамичность, оперативность отклика на те глубинные сдвиги и изменения, которые имели место в российской действительности конца 60-х — середины 70-х годов, так и широта жизненных наблюдений. Сфера их объемлет здесь и исключительно быстрые процессы капитализации пореформенной России, и судьбы помещичьего хозяйства после реформы 19 февраля 1861 года, и состояние народных нравов, и повседневный, обывательский провинциальный быт.
Но есть одно обстоятельство, которое в значительной степени омрачает эту прекрасную внешность. Обстоятельство это — глухая борьба, которая замечается всюду и существование которой точно так же не подлежит сомнению, как и существование усилий к ее подавлению. Трактаты пишутся, но читаются лишь самым незаметным меньшинством, законоположения издаются, но не проникают внутрь ядра, а лишь скользят по его поверхности. И здесь старуха Домна наполняет воздух своим воем и антигосударственными причитаниями.
Отношение масс к известной идее — вот единственное мерило, по которому можно судить о степени ее жизненности. В том еще нет ничего удивительного, что государственные люди и профессора государственного нрава имеют совершенно отчетливое понятие о значении государства в жизни современных обществ. Это — их ремесло, за которое они получают соответствующее вознаграждение. Можно бы даже и с тем примириться, если б с их стороны было меньше отчетливости, лишь бы массы отрешились от своей одичалости и, хотя до некоторой степени (и притом, конечно, без вознаграждения), сообщили своим стремлениям и действиям характер сознательно-государственный. Но тут-то именно мы и встречаемся с тою же сумятицей, которая существует и у нас, с незначительными лишь видоизменениями в подробностях.
Вот уже целый год, как я скитаюсь за границей: сперва жил в южной Германии, потом в Париже и, наконец, в южной Франции. II все мои наблюдения сводятся к следующему: 1)люди культуры видят в идее государственности базис для известного рода профессии, дающей или прямые выгоды в виде жалованья, или выгоды косвенные — в виде премии за принадлежность к той или другой политической партии, и 2) массы либо совсем игнорируют эту идею, либо относятся к ней крайне робко и безалаберно. Я даже не думаю, чтоб последние почувствовали какое-нибудь беспокойство, если б, например, отбывание воинской повинности — одна из существеннейших прерогатив государства — было объявлено навсегда упраздненным.
Правда, что южная Германия — больное место империи, созданной войною 1870 — 71 г.*, но для наблюдателя важно то, что здесь даже резкие перемены, произведенные успехами Пруссии, не помешали появлению некоторых симптомов, которые в других частях новосозданного государства находятся еще в дремотном состоянии. Несмотря на замечательную ловкость прусских государственных людей и сильную поддержку, доставляемую им печатью, партикуляризм не только не успокоивается на юге Германии, но, по-видимому, с каждым годом приобретает более и более ожесточенный характер. Конечно (в особенности в городах), и теперь встречается немало люден убежденных, которых восторгает мысль о единстве и могуществе Германии, о той неувядаемой славе, которою покрыло себя немецкое оружие, раздавивши «наследственного врага», и о том прекрасном будущем, которое отныне, по праву, принадлежит немецкому народу; но ведь эти люди представляют собою только казо́вый конец современной южногерманской действительности. Под ними и за ними стоят целые массы субъектов, изнемогающих под гнетом вопроса о насущном хлебе, субъектов, которые не вопрошают ни прошедшего, ни будущего, но зато с удивительною цепкостью хватаются за наличную действительность и очень бесцеремонно взвешивают и сравнивают все, что взвешиванию и сравнению подлежит.
Пропаганда идеи о германском единстве ведется уже так давно, что не могла обойти и людей насущного хлеба. Им припоминали прогулки Наполеона 1 по Германии и угрожали подобными же прогулками «наследственного врага* в ближайшем будущем. Им говорили об общем германском отечестве, которое тогда будет только в состоянии противостать каким бы то ни было присоединительным поползновениям, когда оно сплотится в единое, сильное и могущественное государство. Что только тогда они могут считать себя спокойными за свои семейства и за свою собственность, когда у них не будет смешных государств, вроде Шаумбург-Липпе*, о которых ни один путешественник не может говорить иначе как при помощи анекдотов. Что, тем не менее, снисходя к их человеческой слабости, можно примирить партикуляризм с объединением, оставив рядом с общим государством, сильным и неприступным, и прежние частные государства. И что, таким образом, для них откроется возможность иметь разом «две высших правды и два верных подданства».
Из веего этого люди насущного хлеба отнеслись сочувственно только к надежде быть спокойными за свою собственность и за свои семейства; все прочее они выслушали ни сочувственно, ни несочувственно, потому что это прочее составляло для них тарабарскую грамоту. Быть может, некоторым и приходил в голову вопрос: «А в каком положении будут подати и повинности?» — но вопрос этот уже по тому одному остался без последствий, что некому было ответить на него. Война была на носу, и потому все делалось впопыхах. Не до разъяснений в такие минуты, когда требуются деньги и солдаты, солдаты и деньги. Даже представители южногерманской культуры, которые нынче так ясно понимают, что променяли кукушку на ястреба, — и те в то время должны были молчать. Они находились в очень фальшивом положении, ибо над ними тяготело подозрение в недостатке сочувствия к опасностям, угрожающим общему германскому отечеству.
Таким образом, и солдаты, и деньги были даны. И вот, в одно прекрасное утро, баварцы, баденцы и проч. проснулись не просто королевскими, но императорско-королевскими подданными. Само собою разумеется, что это привело их в восторг.
Но это был именно только восторг, слепой и внезапный, а отнюдь не торжество чувства государственности. Это было хмельное упоение славой побед, громом оружия, стонами побежденных, — упоение, к которому, сверх того, в значительной доле примешивалось и ожидание добычи, в виде пяти миллиардов.*
Прошло не больше пяти лет, и путешественник уже с изумлением спрашивает себя: «Куда девались восторги? что сделалось с недавним упоением? где признаки того добровольного стремления к единству, в жертву которому приносились солдаты и деньги, деньги и солдаты?»
Ничего подобного нет и в помине. Вместо восторгов мы видим полное господство низменных интересов, вместо добровольного стремления к успокоению на лоне великого, единого государства — борьбу. Да, все политическое существование современной Германии представляет отнюдь не торжество государства, а только сплошную борьбу во имя его. Борьбу с партикуляризмом, борьбу с католицизмом, борьбу с социалистическими порываниями* — словом, со всем, что чувствует себя утесненным в тех рамках, которые выработал для жизни идеал государства, скомпонованный в Берлине. Но спрашивается: можно ли считать осуществившеюся идею, которая имеет уже за себя право сильного, но и за всем тем вынуждена бороться за свое существование? и можно ли назвать успешным такое мероприятие, которое выполняется только потому, что за невыполнение его грозит кара?
Повторяю: покуда низменные, будничные интересы держат массы в плену, до тех пор для них недоступна будет высшая идея правды, осуществляемая государством. Немец, ежели он не гелертер*, не присяжный политик и не чиновник, есть обыватель по преимуществу. Он всецело предан идее насущного хлеба и тем подробностям, которыми эта идея обставлена; за тем все отношения его к государству, как и у нас, ограничиваются податями и солдатчиною. Подати империя значительно увеличила, солдатчину сделала общедоступною. Все это, конечно, необходимо ради государства, ради его величия и славы, и в Германии на этот счет менее, нежели где-либо, может быть недоразумений. Всякому известно, что столько-то миллионов употреблено на заказ пушек, столько-то на приобретение ружей новой системы, столько-то на постройку и вооружение крепостей и что все это необходимо на страх наследственным и ненаследственным врагам. Но когда люди думают совсем о другом, то от них самые доказательные убеждения отскакивают, как от стены горох.
— Все миллиарды, уплаченные Францией, употреблены на составление инвалидного фонда, да на вооружения, да на дотации, а на развитие промышленности ничего не попало! — жалуется один немец.
— Прежде мы солдатчины почти не чувствовали, а теперь даже болезнью от нее не отмолишься. У меня был сын; даже доктор ему свидетельство дал, что слаб здоровьем, — не поверили, взяли в полк. И что ж! шесть месяцев его там мучили, увидели, что малый действительно плох, и прислали обратно. А он через месяц умер! — вторит другой немец.
— У нас нынче в школах только завоеваниям учат. Молодые люди о полезных занятиях и думать не хотят; всё — «Wacht am Rhein» да «Kriegers Morgenlied»*[448] распевают! Что из этого будет — один бог знает! — рассказывает третий немец.
— Все наши соки Берлин сосет…
Понятно, что в людях, которые таким образом говорят, чувство государственности должно вполне отсутствовать.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Том 11. Благонамеренные речи"
Книги похожие на "Том 11. Благонамеренные речи" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Михаил Салтыков-Щедрин - Том 11. Благонамеренные речи"
Отзывы читателей о книге "Том 11. Благонамеренные речи", комментарии и мнения людей о произведении.