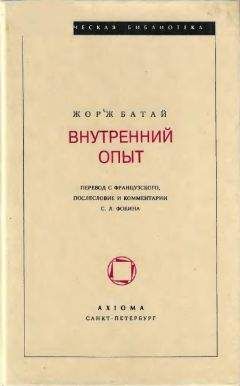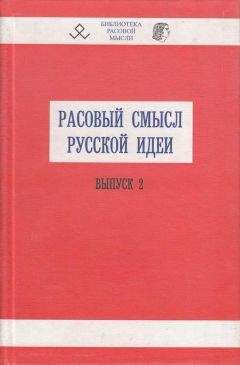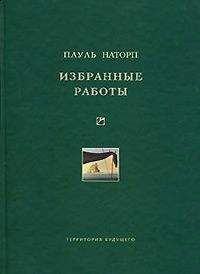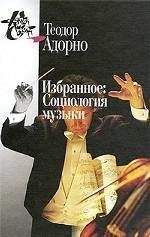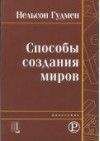Ганс Гадамер - Актуальность прекрасного
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Актуальность прекрасного"
Описание и краткое содержание "Актуальность прекрасного" читать бесплатно онлайн.
В сборнике представлены работы крупнейшего из философов XX века — Ганса Георга Гадамера (род. в 1900 г.). Гадамер — глава одного из ведущих направлений современного философствования — герменевтики. Его труды неоднократно переиздавались и переведены на многие европейские языки. Гадамер является также всемирно признанным авторитетом в области классической филологии и эстетики. Сборник отражает как общефилософскую, так и конкретно-научную стороны творчества Гадамера, включая его статьи о живописи, театре и литературе. Практически все работы, охватывающие период с 1943 по 1977 год, публикуются на русском языке впервые. Книга открывается Вступительным словом автора, написанным специально для данного издания.
Рассчитана на философов, искусствоведов, а также на всех читателей, интересующихся проблемами теории и истории культуры.
Можно задаться скептическим вопросом, не принадлежит ли подобная концепция, согласно которой художественное произведение открыто каждый раз для нового истолкования, уже к некоему вторичному миру эстетических построений. Не является ли произведение, которое мы называем художественным, в своем истоке носителем некой осмысленной жизненной функции в определенном культовом или социальном пространстве и не внутри ли последнего обретает оно полновесную смысловую определенность? Между тем вопрос этот, похоже, можно поставить еще и иначе. Действительно ли получается так, что художественное произведение, идущее из прошедших или чуждых жизненных миров и пересаженное в наш исторически сложившийся мир, становится всего лишь объектом историко-эстетического наслаждения и ничего уже больше не говорит из того, что оно имело первоначально сказать? «Сказать нечто», «иметь сказать нечто» — это просто метафоры, за которыми стоит лишь правда неопределимого в смысловом отношении мира эстетических образов, или же, наоборот, сама эта эстетическая образность является лишь условием для того, чтобы произведение могло нести в самом себе свой смысл и что-то сообщать нам? С такой постановкой вопроса тема «эстетика и герменевтика» поднимается на уровень своей подлинной проблематики.
Развернутая таким образом постановка вопроса сознательно превращает проблему систематизирующей эстетики в проблему существа искусства. Верно, конечно, что при своем первоначальном возникновении и даже еще при своей разработке в кантовской «Критике способности суждения» эстетика простиралась внутри гораздо более широких пределов, охватывая прекрасное в природе и искусстве и даже возвышенное. Бесспорно также, что для основополагающих определений суждения эстетического вкуса у Канта, особенно для понятия незаинтересованного наслаждения, прекрасное в искусстве обладает методологическим преимуществом. С другой стороны, всякий поневоле согласится, что прекрасное в природе говорит нам нечто не в том же смысле, в каком нам говорят нечто те созданные людьми и для людей произведения, которые мы называем художественными. Можно с полным правом сказать, что художественное произведение даже «чисто эстетически» нравится нам совсем иначе, чем цветок или, скажем, орнамент. Кант говорит, что искусство доставляет нам «интеллектуализированное» наслаждение. Но это не помогает: все равно ведь нас как эстетиков интересует особенно это смешанное — ибо ин- теллектуализированное — удовольствие, вызываемое искусством. И более проницательная рефлексия, которой Гегель подверг отношение между прекрасным в природе и в искусстве, достигла весомого результата: красота в природе есть отблеск красоты в искусстве. Когда нечто в природе кажется прекрасным и вызывает наслаждение, то это не вневременная и надмирная данность «чисто эстетического» объекта, коренящаяся в вещественной гармонии форм и красок и в симметрии черт, которую некий пифагорейский математический рассудок способен выявить в природе. То, как нам нравится природа, относится, скорее, к свойствам нашего заинтересованного эстетического вкуса, всегда сформированного и обусловленного художественным творчеством эпохи[315]. Эстетическая история ландшафта, например альпийского, или переходное явление садового искусства являются неоспоримым тому свидетельством. Мы вправе поэтому исходить из художественного произведения, если хотим прояснить отношения между эстетикой и герменевтикой.
Во всяком случае, вовсе никакая не метафора, а имеет добротный и доказуемый смысл то, что художественное произведение нам что-то говорит и что тем самым, как говорящее, оно принадлежит совокупности всего то, что подлежит нашему пониманию. А тем самым оно предмет герменевтики.
По своему первоначальному определению герменевтика есть искусство изъяснять и передавать путем собственного истолковательного усилия то, что сказано другими и живет в нашей традиции, но не обладает непосредственной понятностью. Между тем эта герменевтика как филологическое искусство и как преподавательская практика давно уже видоизменила и расширила свое содержание. Ибо пробуждающееся историческое сознание вскрыло тем временем подверженность всякой традиции, всякого предания недопониманию, недоразумению и непониманию, а распад европейской христианской общности — в ходе начинающегося с Реформации индивидуализма — сделал индивида неразгадываемой последней тайной. Не случайно со времен немецкого романтизма герменевтика начинает видеть свое назначение в избежании псевдопонимания. Она тем самым захватывает область, в принципе простирающуюся настолько же, насколько вообще простирается осмысленное высказывание. Осмысленные высказывания суть прежде всего выражения языка. Как искусство передачи иноязычного высказывания доступным для понимания образом герменевтика не без основания названа по имени Гермеса, толмача божественных посланий людям. Если помнить о происхождении понятия герменевтики из этого имени, то становится недвусмысленно ясным, что дело тут идет о языковом явлении, о переводе с одного языка на другой и, значит, об отношении между двумя языками. Поскольку, однако, переводить с одного языка на другой можно, лишь когда мы поняли смысл сказанного и заново выстраиваем его в среде другого языка, то подобное языковое явление предполагает в качестве предварительного условия понимание.
Эти тривиальности приобретают решающее значение для занимающего нас здесь вопроса, вопроса о языке искусства и о правомерности герменевтической точки зрения на художественный опыт. Всякое истолкование того, что подлежит пониманию, приближающее его к пониманию другими, имеет языковой характер. Соответственно весь опыт мира опосредуется языком, и этим обусловлено наиболее широкое понятие традиции как неязыковой по своему существу, но допускающей языковое истолкование. Традиция охватывает все от «применения» орудий, технологий и т. д. до ремесленных навыков в изготовлении видов приборов, форм украшений и т. д., от соблюдения нравов и обычаев до культивирования показательных образцов и т. д. Относится ли сюда художественное произведение или оно находится на особом положении? В той мере, в какой дело не идет о конкретно словесных художественных произведениях, искусство, по- видимому, действительно принадлежит к этой неязыковой традиции. И все же восприятие и понимание художественного произведения предполагают нечто другое, чем, скажем, понимание дошедших до нас от прошлого орудий или обычаев.
Если следовать старому определению герменевтики у Дройзена[316], то нужно провести различение между источниками и остатками (Überreste). Остатки — это сохранившиеся фрагменты былых миров, помогающие нам духовно реконструировать жизнь, следами которой они являются. Источники, напротив, составляют богатство языковой традиции и служат тем самым пониманию мира в его словесном истолковании. Куда, однако, отнести, скажем, архаическое изображение бога? Остаток ли это, подобно какому-нибудь кувшину? Или фрагмент истолкования мира по типу словесного предания?
Источники, говорит Дройзен, это записи, сохраняемые для целей воспоминания. Смешанную форму источника и остатка он называет памятником, причисляя сюда помимо документов, монет и т. п. «художественные произведения всякого рода». Историку так оно и должно казаться, но художественное произведение само по себе не исторический документ — ни по своему назначению, ни по тому значению, которое оно приобретает внутри художественного опыта. Правда, говорят о «памятниках искусства», как если бы в создании произведения искусства участвовало намерение документально что-то засвидетельствовать. Здесь есть та доля истины, что для каждого произведения искусства существенна длительность жизни — для мимолетных искусств, конечно, только в форме повторяемости. Удавшееся произведение «зажило своей жизнью» (это может сказать о своем номере даже и артист варьете). Отсюда вовсе не следует, что цель тут — служить предъявляемым свидетельством чего-то другого, подобно документу в подлинном смысле этого слова. Никто ведь не собирается тут засвидетельствовать нечто имевшее место. Нет намерения и гарантировать произведению долгую жизнь, поскольку его сохранение целиком зависит от суждения вкуса и от художественного чутья позднейших поколений. Но как раз эта зависимость от воли к сохранению показывает, что произведение искусства передается от поколения к поколению в том же самом смысле, в каком происходит передача наших литературных источников. Во всяком случае, оно «говорит» не только так, как остатки прошлого сообщают нечто историку-исследо- вателю, и не только так, как «говорят» исторические документы, фиксирующие то или иное событие. Ибо то, что мы называем языком художественного произведения и ради чего оно сохраняется и передается, есть голос, каким говорит само произведение, будь оно языковой или неязыковой природы. Произведение что-то говорит человеку, и не только так, как историку что-то говорит исторический документ, — оно что-то говорит каждому человеку так, словно обращено прямо к нему как нечто нынешнее и современное. Тем самым встает задача понять смысл говоримого им и сделать его понятным себе и другим. Произведение несловесного искусства поэтому тоже входит в круг прямых задач герменевтики. Оно подлежит интеграции в самопонимание каждого человека[317] [318].
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Актуальность прекрасного"
Книги похожие на "Актуальность прекрасного" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Ганс Гадамер - Актуальность прекрасного"
Отзывы читателей о книге "Актуальность прекрасного", комментарии и мнения людей о произведении.