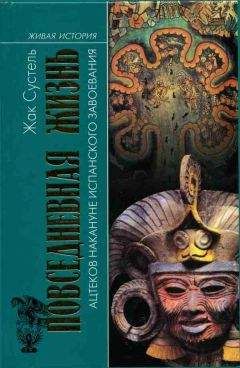Дмитрий Засосов - Повседневная жизнь Петербурга на рубеже XIX— XX веков; Записки очевидцев

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Повседневная жизнь Петербурга на рубеже XIX— XX веков; Записки очевидцев"
Описание и краткое содержание "Повседневная жизнь Петербурга на рубеже XIX— XX веков; Записки очевидцев" читать бесплатно онлайн.
Авторы книги — юрист Д. А. Засосов и инженер-путеец В. И. Пызин — принадлежали к последнему поколению истинных петербуржцев. В их воспоминаниях о жизни, быте и нравах столичного города конца XIX — начала XX века нашел отражение взгляд на Петербург представителей демократической интеллигенции России. Авторы, одаренные наблюдательностью и чувством юмора, увлекательно рассказывают о жизни петербуржцев различных сословий предреволюционной поры.
Книгу дополняют обширные комментарии, которые содержат любопытные сведения из истории Петербурга, и многочисленные иллюстрации.
133
Зимой извозчики ездили в санках… Различались сани «городские», «ковровые» и «вейки» («чухонские»). Извозчики и владельцы собственных выездов ездили на «городских» — с деревянным (под орех или красное дерево) кузовом и тонкими металлическими копыльями и полозьями. Козлы были такие узкие, что возница скорее опирался на них, чем сидел. Запрягали в одну или две лошади. Ноги седоков укрывались суконной (в собственных выездах — медвежьей) полостью. Седок должен был крепко держаться, чтобы не выпасть на повороте. На стоянке лошадей накрывали суконной попоной. При сильных морозах на них надевали попоны, облегавшие все туловище, с застежками на груди и по брюху. Сбруя надевалась поверх попон (Ривош Я. 83).
134
…лошадь, идущая следом… «Лошадиная обмерзшая в сосульках морда почти у вас на плече» (Ахматова А. I. 27).
135
…были нарасхват. В отличие от «дневных» извозчиков, у «ночных» и закладка была погрязнее, и лошадь похуже (Бахтиаров А. 1903. 61).
136
Извозчики жили… Извозчичьи кварталы — Лиговка от Николаевского вокзала до Обводного и примыкающие улицы. Здесь их (обычно выходцев из Калужской губернии) жило больше, чем во всем остальном Петербурге. «Ни одной библиотеки, книжной лавки, лечебницы, парикмахерской, галантерейной, мануфактурной… только питейный дом, трактир, портерная, чайная, реже попадается мелочная лавка, хлебная пекарня, квасная… и все… <…> Этим исчерпываются потребности извозчика… Даже единственная здесь баня торгует всего три дня в неделю» (Животов Н. I. 27, 29).
137
…условия в общежитии были скверные… «Извозчики живут у хозяев на их харчах, получая 8 руб. в месяц жалованья и… право ткнуться после езды где-нибудь „соснуть“. Харчи состоят из щей или похлебки, получаемой извозчиками утром перед выездом; затем, возвращаясь ночью, некоторые находят хлеб „незапертым“ и закусывают краюхой на сон грядущий, большинство же хозяев запирают хлеб, и извозчики должны ложиться голодными. Об одном хозяине извозчики рассказывали: „На 36 рабочих он имеет одну комнату с девятью матрацами, но и матрацы эти выдаются только на те дни, когда „санитары по дворам шляются“, а как только „санитарная комиссия прошла“, матрацы убираются… Извозчики хоть и получают жалованье по 7 руб. в месяц, но… не увидят никогда ни копейки… Все идет на вычеты и штрафы“» (Животов Н. I. 31). Впечатления седока: дрожки пахли дегтем, кожей и лошадьми, «однако обычно самый сильный запах исходил от самого возницы… запахи от немытого тела проникали сквозь слои одежды, такие же плотные, как у мумии, и столь же редко сменявшиеся» (Стравинский И. 1971. 12). Общераспространенное прозвище извозчика — «ванька». Кучера звали их «желтоглазыми гужеедами», сами извозчики называли друг друга «сватами». Журналист, преобразившийся в извозчика, чтобы ознакомиться с их бытом и условиями работы, рассказывал: «Я не смею сойти с козел, под страхом наказания; не смею зайти, куда бы хотел, потому что везде меня, как парию, выгонят в шею» (Животов Н. I. 2, 3, 6, 21).
138
Были в столице лихачи… Большинство лихачей были из барских кучеров и всячески это подчеркивали. У лихача и впрямь мог быть собственный выезд. Пролетка на дутых шинах, по бокам козел — электрические фонари. Велюровый цилиндр или бобровая шапка; поддевка тонкого сукна, зимой обшитая куницей или соболем; пояс с серебряными бляхами; перчатки или рукавицы белые из оленьей замши; сзади на поясе — путевые часы в кожаной оправе. Летом — бархатная безрукавка поверх русской рубашки; на голове шапка с павлиньими перьями. Волосы у лихача завиты и напомажены, борода расчесанная и подстриженная (Ривош Я. 143).
139
…драли они безбожно… У лихачей никакой таксы не существовало. Сколь бы коротка ни была поездка, меньше чем за «рупь» лихач с места не трогался, а за час езды брал не менее 3 рублей (Бахтиаров Н. 1903. 61, 62). «Городское управление не сдает здесь (на углу Невского и Литейного. — А. С.) никому мест для стоянки, но лихачи на резине по особым соглашениям с господами городовыми и дворниками устроили монополию и завладели местами. Стоянки тут бойкие. Напротив Палкин и две гостиницы с номерами для приходящих или приезжающих с островов; кругом богатые фирмы и квартиры. Есть и постоянные пижоны, феи и дамы сердца. <…> Выйдет парочка из гостиницы, потом на острова, ужинать к Палкину, и под утро лихач развезет по домам. <…> Каждый лихач имеет своих постоянных „гостей“ и знает все их интрижки. <…> Некоторые лихачи… оказывают своим седокам существенные услуги по части знакомства и сокрытия концов в воду; они при случае могут достать деньжонок, оказать кредит. <…> Рассказывают про одного „пижона“, который спустил около 200 тысяч рублей в одно лето, при постоянном посредничестве лихача Максима. Пижон теперь нищенствует, а лихач величается „Максим Митрич“ и имеет 40 закладок» (Животов Н. I. 13, 14).
140
…тройки для катания… При запряжке тройкой коренник бежал рысью, а пристяжные скакали галопом. Обычно коренник был рысаком, а пристяжные — лошадьми верховых пород. Во время бега пристяжных заставляли держать голову набок. Пристяжные обычно подбирались «под масть» — одного цвета, с одинаковыми отметинами, — а коренник мог быть другого цвета, но особым шиком считалась одномастная тройка (Ривош Я. 81, 82).
141
…у цирка Чинизелли. Цирк Чинизелли — ныне Санкт-Петербургский государственный цирк (Фонтанка, 3). Летняя стоянка троек — за Казанским собором (Baedeker K. 90).
142
Внутри все обито коврами… У «ковровых» саней (как и у «веек») шли по бокам на всю длину отводы толщиной с оглоблю, которые отводили снег на узком санном пути и поддерживали сани на ухабах. Ковры в них были обычно черные, с красно-зелеными цветами. Поверх щитков от снега иногда ставили электрические или карбидные фонари. Лихачи устанавливали фонари и на торцах оглобель. Чаще всего на таких санях катались в масленицу (Ривош Я. 84). Стоило это, в зависимости от расстояния, 8–20 руб. плюс рубль — два чаевых (Baedeker K. 90).
143
…вейки. «Вейками» называли и саночки, и самих возниц (фин. veikko — товарищ, друг, брат).
144
…в английской запряжке… Фаэтон — легкая коляска со складным кожаным откидным верхом. Английская упряжь — без дуги и гужей: тяга осуществлялась постромками. Оглобли служили только для поворота и крепились к поворотному кругу, а не к осям. Считалось шиком держать вожжи левой рукой, как поводья при езде верхом, а в правой держать хлыст из камыша или китового уса, оплетенного ремешками (в русской упряжке ездить с кнутом в руке считалось неприличным, даже извозчики прятали кнут за голенище). Можно было вставить хлыст в гнездо на переднем щитке или в ногах. Лошадям стригли голову и холку, хвост купировали (закладывая такую лошадь по-русски, ей подвязывали фальшивый хвост, иногда и гриву); передние ноги бинтовали; для предотвращения солнечного удара на голову лошади водружали соломенную шляпу с небольшими полями с отверстиями для ушей и очень высокой тульей. Грум соединял обязанности кучера и выездного лакея. Специально подбирали малорослых грумов, часто мальчиков 14–15 лет. Форма грума — курточка до пояса, со стоячим воротником; белые бриджи; жокейские сапоги; белые замшевые перчатки. «Эгоистка» — то же, что шарабан: двухколесный открытый экипаж с запряжкой в одну или две лошади. Экипажи под английскую упряжь (коляски, ландо, кареты, кабриолеты) чаще, чем в русской, были с красными или желтыми колесами с дутыми шинами и никелированными спицами. При светлых кузовах сбруя была желтая или коричневая. Английские экипажи часто были снабжены ручным тормозом. Ездили в них преимущественно летом (Ривош Я. 82, 98, 181).
145
…лакей сидел рядом с кучером на козлах. Выездной лакей открывал и закрывал дверцы экипажа, откидывал ступеньку кареты, держал под уздцы лошадей во время стоянки, носил покупки и вещи хозяина, опекал собаку, укутывал ноги седоков пледом. Подбирали их из людей высокого роста. Сидел лакей слева от кучера. Форма выездных — велюровый цилиндр; летом — обшитая галуном короткая ливрея со стоячим воротничком, бантик или пластрон, белые бриджи, заправленные в черные жокейские сапоги, светлые замшевые перчатки; осенью и весной поверх ливреи — шинель типа «николаевской» с эполетом и аксельбантом; зимой — шинель с меховым воротником (енот, медведь) (Ривош Я. 180). Кучера частенько бывали бездельниками, хвастунами и сплетниками. «Лошадей убирает конюх, мое дело только на козлах сидеть и 30 рублев в месяц, окромя харчей и подарков». В часы ожидания господ у театров и ресторанов они громко обсуждали интимные подробности жизни своих хозяев (Животов Н. I. 33, 34).
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Повседневная жизнь Петербурга на рубеже XIX— XX веков; Записки очевидцев"
Книги похожие на "Повседневная жизнь Петербурга на рубеже XIX— XX веков; Записки очевидцев" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Дмитрий Засосов - Повседневная жизнь Петербурга на рубеже XIX— XX веков; Записки очевидцев"
Отзывы читателей о книге "Повседневная жизнь Петербурга на рубеже XIX— XX веков; Записки очевидцев", комментарии и мнения людей о произведении.