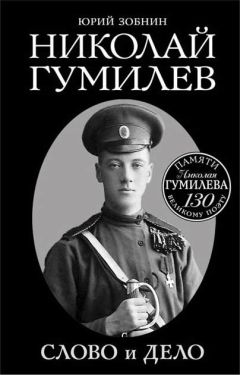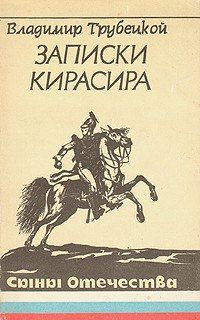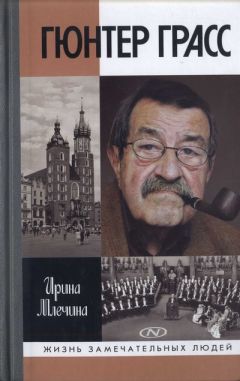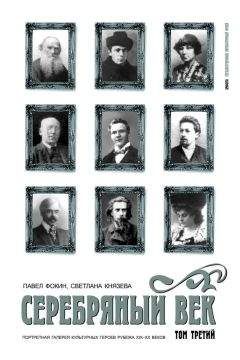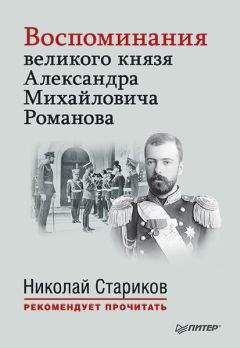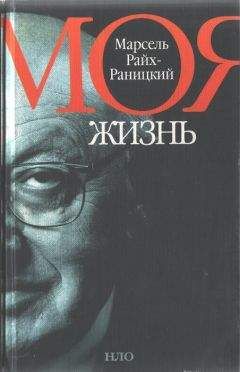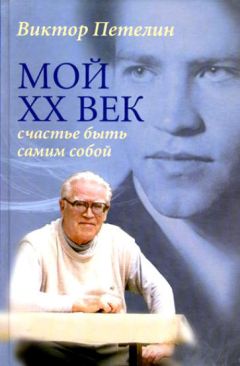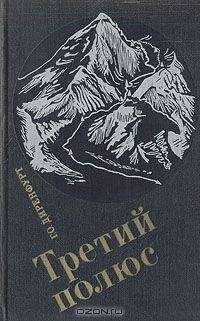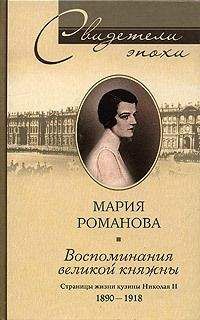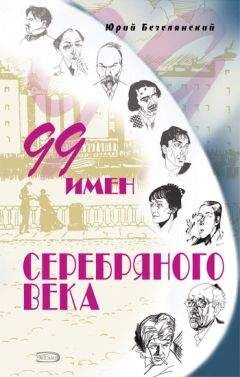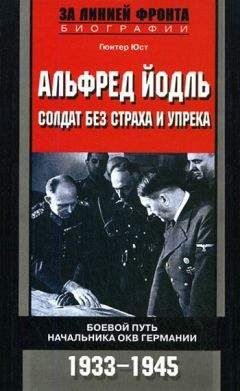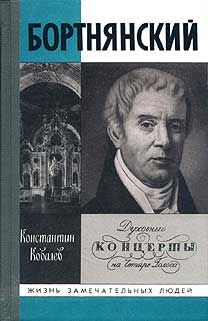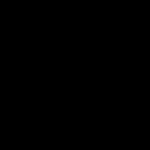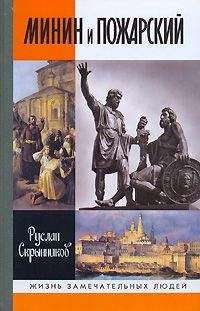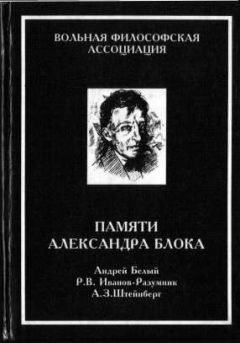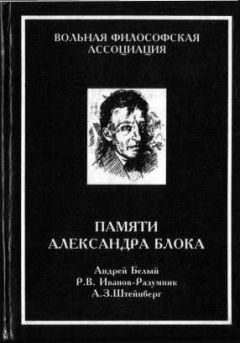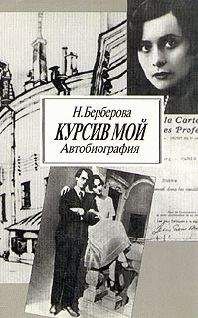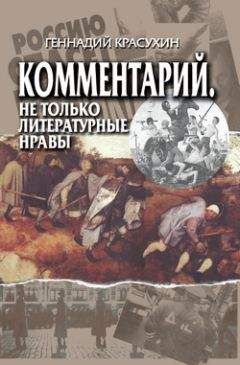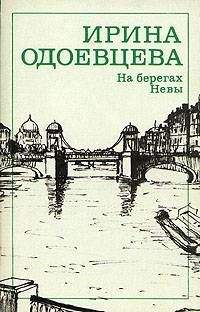Иоганнес Гюнтер - Жизнь на восточном ветру. Между Петербургом и Мюнхеном
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Жизнь на восточном ветру. Между Петербургом и Мюнхеном"
Описание и краткое содержание "Жизнь на восточном ветру. Между Петербургом и Мюнхеном" читать бесплатно онлайн.
Автор воспоминаний, уроженец Курляндии (ныне — Латвия) Иоганнес фон Гюнтер, на заре своей литературной карьеры в равной мере поучаствовал в культурной жизни обеих стран — и Германии, и России и всюду был вхож в литературные салоны, редакции ведущих журналов, издательства и даже в дом великого князя Константина Константиновича Романова. Единственная в своем роде судьба. Вниманию читателей впервые предлагается полный русский перевод книги, которая давно уже вошла в привычный обиход специалистов как по русской литературе Серебряного века, так и по немецкой — эпохи "югенд-стиля". Без нее не обходится ни один серьезный комментарий к текстам Блока, Белого, Вяч. Иванова, Кузмина, Гумилева, Волошина, Ремизова, Пяста и многих других русских авторов начала XX века. Ссылки на нее отыскиваются и в работах о Рильке, Гофманстале, Георге, Блее и прочих звездах немецкоязычной словесности того же времени.
С рукописью моего предварительного перевода «Грозы» Островского я отправился в издательство Эриха Эстерхель- да. На другой вечер, после того как Фольмёллер обругал пьесу, я читал ее в помещении издательства и ушел оттуда, с гордостью унося договор на перевод трех пьес Островского: «Гроза», «Лес», «Таланты и поклонники». К сожалению, впоследствии оказалось, что издательство я выбрал все-та- ки не вполне подходящее, так как ни одна из этих пьес в моем переводе не была поставлена ни на одной немецкой сцене, хотя рецензии на книгу были хорошие. Эстерхельд взял на себя также издание «Себастьяна мученика» великого князя, а все заботы по распространению и сбыту книги остались за Прущенко в Риге.
Важнее для меня было то, что Эстерхельд собрался напечатать мою антологию «Новый русский Парнас». В нее должны были войти мои переводы стихов моих русских друзей, а также мое вводное эссе.
Я, конечно, побывал и в других издательствах. Прежде всего у С. Фишера, где, однако, к возвращению блудного сына не отнеслись благосклонно. Профессор Би был подчеркнуто беспощаден, Морицу Хайману не понравились мои новые стихи, что меня и разочаровало, и обидело, ибо в том возрасте, в котором я пребывал, всякое неодобрение воспринимается как личное оскорбление; кроме того, самоуверенность мою подкрепляла позиция критика ведущего русского литературного журнала.
Как-то в воскресенье мы поехали с Фольмёллером в Лейпциг. Он был зван на обед к Киппенбергам, я же собирался повидать Эрнста Ровольта.
По дороге Фольмёллер предложил мне придумать ему материал для пантомимы. Макс Рейнхардт приобрел
расположенный поблизости от Немецкого театра цирк Шумана и собирался ставить там перед пятитысячной публикой не только древних греков (Эсхила с Моисеи), но и большие пантомимы, которые современные писатели должны написать специально для него. Первую поручалось сочинить Фольмёллеру, но материала у него еще не было.
В Лейпциге, не застав дома Ровольта и повинуясь инстинкту, я отправился пообедать в отель «Хауффе». Все время невероятно обстоятельного обеда голова моя целиком была занята замыслом Фольмёллера. Сначала мне пришел в голову «Кожаный чулок», я и до сих пор думаю, что с таким материалом можно собирать сколько угодно зрителей как в Европе, так и в Америке. Потом — «Гулливер», от которого пришлось отказаться по причине технической невозможности постановки. Больше всего захватила меня мысль об «Одиссее»; правда, тут я мысленно пытался исключить риторику, сосредоточившись на приключениях, из которых приходилось отсечь все возвращение героя, что было бы ошибкой. «Нибелунги» тоже как-то не вмещались в заданные размеры. Так в конце концов я выудил легендарный сюжет очаровательной пьесы Готфрида Келлера «Дева и монахиня», который и сам уже обдумывал на предмет собственной драмы; в сборнике легенд семнадцатого столетия мне попался один похожий сюжет, так что я был знаком с материалом в разных его вариантах.
Счастливый от своей находки, я поехал к Киппенбергам, где должен был появиться к чаю, чтобы забрать с собой Фольмёллера. Здесь я познакомился с хозяйкой дома, которая не произвела на меня впечатления, хотя уже тогда почиталась как всемогущая мать поэтических талантов. То ли сидела во мне занозой насмешка Рудольфа Александра Шрёдера, то ли я прозревал в ней уж слишком многостороннюю «богоматерь», одинаково милостивую в присуждении лаврового венка как Райнеру Марии Рильке, так и Иоганнесу Р. Бехеру… Во всяком случае, я понравился ей так же мало, как и она мне. Профессор, который был так добр, что постарался не узнать меня, показал мне свое уникальное собрание изданий Гете. Из разговоров за столом я понял, что Фольмёллера рассматривали в качестве возможного автора «Инзеля»: не только «Виланд» предполагался к изданию, но и томик стихов, а затем и прочие сочинения, прежде всего комедия «Немецкий граф», от которой все ждали шумного успеха, но которая так и не была никогда поставлена. Правда, после провала «Виланда» «Инзель» выпустил только стихи, а прочие прекрасные планы того дня кончились ничем.
На обратном пути в Берлин я поведал Фольмёллеру о возможных сюжетах для пантомим. Ему понравились все, но больше прочих, конечно, последний («Дева и монахиня»),
Фольмёллер сделал потом на этот сюжет свой известный «Миракль», имевший грандиозный успех во всем мире в течение десятилетия и осыпавший золотым дождем всех участников представления, а более всех Макса Рейнхардта. А сам Фольмёллер смог благодаря американской валюте спасти свою штутгартскую текстильную фабрику в самые жестокие годы инфляции. Поездка в Лейпциг для него оправдалась.
Состоялась вскоре поездка и в Дрезден. Фольмёллер, Макс Рейнхардт и многие люди из Немецкого театра отправились туда на премьеру «Кавалера роз» Рихарда Штрауса, прихватив и меня, поскольку мне предстояло сообщить России об этом событии. Все были едины во мнении, что состоялся шедевр, но я лишь много позже узнал, насколько великолепна сама легшая в основу оперы комедия Гофмансталя, который пребывал в то время для меня еще в тени Георге. Может быть, то самая полнокровная немецкая комедия вообще. Блеск дрезденской постановки с Евой Остен в роли кавалера роз жил во мне еще долго.
Шесть недель пролетели быстро. Но они принесли с собой дань, для меня неожиданную: Германия снова во мне проснулась, тоска по немецкому слову снова во мне углубилась.
Домой я возвращался с несколько опущенными крыльями. Я хоть и нашел издателя, но понимал, что это лишь предварительное решение вопроса. Может, новое свидание с Германией произошло слишком рано? Может, оно вообще было лишним, потому что я предназначен восточному ветру в России?
В Митаве дома была только мама. У отца был обнаружен сахар в крови. И теперь по совету врача он находился в новой клинике на море, где его обещали вылечить за несколько недель.
Мама старалась не выказывать тревоги, но явно была встревожена. Мы с ней решили на следующий же день съездить к отцу. Он провел в клинике уже три недели, такой же срок, по всей вероятности, ему еще предстоял. Его там хоть и баловали, еда была превосходная, но, конечно, кое- чего он был лишен: хлеба, например, блинов, варенья к чаю. Он не жаловался, но было заметно, что одиночество его утомляет. Он говорил больше обычного. И когда мы вечером уезжали, прощание с нами далось ему нелегко.
Вскоре пришло от него раздосадованное письмо: похоже, курс лечения затягивается. А однажды утром отец вдруг объявился дома. Он сбежал. Никому не сказав ни слова, встал пораньше, пешком добрался до вокзала, сел в поезд — и вот он дома.
Он был в отличном настроении, но явно нервничал, чего я раньше за ним не замечал. Он непрестанно и как-то нервно шутил с нами, иногда совсем по-детски: прятал, скажем, свой носовой платок, а потом жаловался маме: «Лола, опять ты меня оставила без платка!» Однако на следующий день он слег с температурой. Сбить ее никак не удавалось. Недоумевающий врач поставил диагноз: воспаление мозговой оболочки.
Мой славный, никогда не мудрствовавший отец заговорил вдруг как сумасшедший. А по большей части он просто лежал с высокой температурой, не приходя в сознание. Моя самая старшая сестра Тони и я помогали маме ухаживать за ним, так как у его постели кто-нибудь должен был находиться постоянно. Врач приходил дважды в день. Но 10 марта, за несколько дней до своего семьдесят первого дня рождения, отец умер.
Утром того же дня мама встала в столовой на стул, чтобы открыть форточку, и, ослабевшая от недосыпания, упала на пол. От страшной боли она не могла шевельнуться, мы с кухаркой бережно перенесли ее на кушетку. Врач заявил, что она, видимо, сломала себе шейку бедра и ей нужно в больницу. Так она оказалась в двух комнатах от отца, когда он умирал, и очень страдала, хотя старалась не показывать этого.
Я сидел с сестрой Тони на кровати отца, когда он внезапно снова открыл глаза. Впервые за несколько дней он смотрел на нас. Неописуемая радость охватила нас. Но тут же глаза его закатились и стали пустыми. То была смерть.
Мама лежала в комнате, где обычно принимали гостей и где стоял письменный стол отца. Чтобы не оставлять ее одну, я сел за этот стол и стал раскладывать пасьянс, которым и он занялся бы в это время. Все шло совершенно гладко, только две последние карты не совпали (смерть).
О нашей финансовой ситуации у меня не было ни малейших представлений. Небольшая пенсия полицмейстера, к ней прибавится теперь, вероятно, немного от предприятия, которым отец руководил в последнее время. Что дальше? Мне еще не было и двадцати пяти, и в практической жизни у меня не было ни малейшего опыта, но я твердо знал, что не оставлю маму в беде. Моим долгом было помогать и оставаться вместе с ней.
Так получилось, что в день похорон отца я сидел у мамы в больнице, чтобы не оставлять ее одну в этот час, — без сомнений, самый трудный час ее жизни.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Жизнь на восточном ветру. Между Петербургом и Мюнхеном"
Книги похожие на "Жизнь на восточном ветру. Между Петербургом и Мюнхеном" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Иоганнес Гюнтер - Жизнь на восточном ветру. Между Петербургом и Мюнхеном"
Отзывы читателей о книге "Жизнь на восточном ветру. Между Петербургом и Мюнхеном", комментарии и мнения людей о произведении.