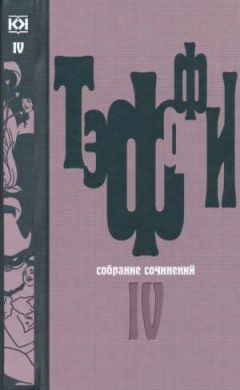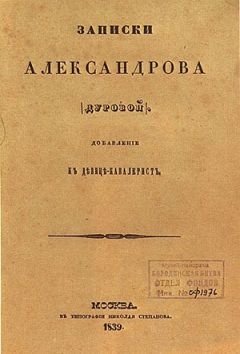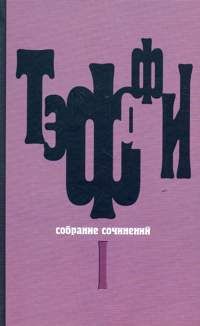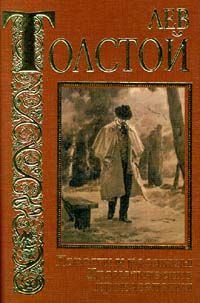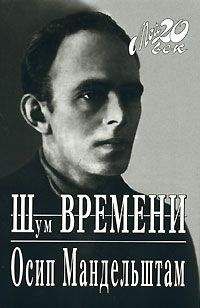Надежда Мандельштам - Вторая книга
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Вторая книга"
Описание и краткое содержание "Вторая книга" читать бесплатно онлайн.
все же упорно козыряла против него Чеховым. Не тогда ли Мандельштам впервые воскликнул: "Как оторвать Ахматову от Художественного театра?" Бывала она в театре так же редко, как мы, и восхищалась преимущественно своими знакомыми. Я соглашалась, когда речь шла о Ранев-ской, действительно хорошей актрисе, но хвалы, расточаемые киноактеру Баталову, сердили меня. Впрочем, Ахматова напирала не на игру, а на то, что Баталов самый знаменитый актер в мире. Сомневаюсь, но допускаю. Только какое нам дело, кто и почему знаменит? Внешний успех трогает меня, как прошлогодний снег, и меня огорчает, что даже Ахматова в старости поддалась этой слабости. Рассмешила меня и неумеренная оценка Райкина, которого Ахматова на сцене никогда не видела, разве что в телевизоре. Культ Баталова и Райкина пришел из дома Ардовых (Баталов - пасынок, а Райкин - божество Ардова), и прекрасная черта Ахматовой - пристрастие - была использована понапрасну.
Театр для всех нас - явление чуждое, не нам о театре судить. В нашей жизни театр почти никакой роли не играл, но он вошел в городской быт, и Мандельштам, "горожанин и друг горожан", оставил даже несколько статей о театре, в том числе и про Михоэльса. В увлечении Михоэльсом, который действительно был поразительным, ни на кого не похожим актером, сыграл, должно быть, большую роль интерес Мандельштама к еврейству, да и то, что, слушая речь актера на незнакомом языке, нельзя уловить актерскую интонацию. Не знаю, была ли она у Михоэльса. Как будто нет...
Мне думается, что поэт и актер противопоставлены не только потому, что совершенно по-разному относятся к слову, но и в других отношениях. Поэт живет словом, он его ищет и находит, потеря слова для него катастрофа, слово и мысль для него неотделимы. Для актера существует не слово, а текст и роль. Текст состоит из слов, но в нем оно имеет лишь служебную функцию. Сами интонации актера и поэта совершенно различны, как и звук их голосов. Но этим, по-моему, различие не ограничивается. Во всем - важном и второстепенном - в поэте нет ничего того, что составляет специфику актерского труда. Пастернак в одном из стихотворений сравнил себя с ак
[327]
тером, и Ахматова прибегла к такому сравнению: у поэта "рампа торчит под ногами", "лайм-лайта холодное пламя его заклеймило чело". Мандельштам резче чувствовал противопостав-ленность актера и поэта, и я объясняю это тем, что он обращался к дальнему, а не к близко от него находящемуся слушателю. Именно поэтому он не мог ощутить рампы под ногами, а тем более своей освещенности лайм-лайтом. Поэт знает только непосредственный круг "первых слушателей", то есть друзей. Он имеет сведенья о тиражах книг, и этим ограничивается его общение с публикой. Ведь не по рецензиям на книги может он судить о своем читателе и не по письмам, которые он получает от разных беспокойных графоманов?.. То, что Ахматова вдруг ощутила себя как освещенную фигуру в темном зале, полном людей, я объясняю только поверх-ностной и эффектной аналогией, а не живым опытом. Даже на вечерах стихов нет актерского противопоставления поэта публике - зал и чтец одинаково освещены, находятся в одном измерении и в одной жизни. Они разговаривают друг с другом, и единственное отличие в том, что собеседник не один, а многоликий. Этой многоликости актер не чувствует: погруженный в темноту зал для него единое целое - публика.
Я плохо знаю театр, но кое-какие различия между актером и поэтом сразу бросаются в глаза, и в первую очередь отношения между актером и публикой и между поэтом и читателем. Актер играет для зрительного зала. Он должен увлечь его за собой, заразить его чувствами - не свои-ми, а того, кого он играет. Сергей Булгаков говорит, что актер "провоцирует" чувства зрителей. Поэт, как писал Мандельштам в письме к отцу, работает "для себя", а читатель принимает или отвергает его труд. Поэт, работающий на читателя, принадлежит к разряду "журнальной поэ-зии", как писал Мандельштам, то есть литературы, лишь имитирующей стихотворный размер. Поэт, конечно, связан со своими современниками, как всякий человек, но эта связь совсем иная, чем у актера, увлекающего за собой публику. Поэт не ведет за собой современников, но всегда знает, что сам является их отражением. Об этом сказано у Ахматовой: "Я голос ваш, жар вашего дыханья, я отраженье вашего лица". Поэт зависит
[328]
от современников в гораздо большей степени, чем актер, "провоцирующий" чувства. Он сам заражается от людей мыслями и чувствами, борется с ними или поддается им. В театре драма-тург, а не актер находится в таких отношениях с современниками, хотя в угоду "рампе" он подвержен большим соблазнам, чем поэт. Свобода поэта в способности расценить чувства современников, их поведение, идеи и мысли с точки зрения той идеи, на которой строится его личность, чтобы одни принять, а другие отвергнуть. В чем состоит свобода актера, я не знаю.
Работа поэта - самопознание, он всегда ищет "разгадку жизни своей". Я боюсь дебрей философии, но мне кажется, что где-то работа философа и поэта имеет нечто общее. И тот и другой пытаются понять тайну своего "я" в мире вещей, а это возможно лишь путем взаимо-проникновения субъекта и объекта. Внешний опыт поэта претворяется в частицу его духа, что-то меняя и обновляя в структуре личности, и тем самым становится предметом поэзии. Мне кажется, что возможно и обратное соотношение во времени: опыт, становясь предметом поэзии, вносит изменение в структуру личности. Иначе говоря, стихотворение, рождаясь и воплощаясь в слова, раскрывает поэту глубинный смысл опыта. Наконец, бывают случаи, когда поэт готовится к опыту и предвосхищает его, тем самым постигая его сущность. Таков поэт, когда он "упраж-няется в смерти", заранее умирает и останавливает время, чтобы тут же ощутить длящийся миг и вернуться к жизни. (Не потому ли Мандельштам понимал вечность как длящийся миг?) В маленьком стихотворении, появившемся в связи с переводами четырех сонетов Петрарки, сказано: "Тысячу раз на дню, себе на диво, я должен умереть на самом деле и воскресаю так же сверхобычно". Мандельштам слов на ветер не кидал. Все, о чем он говорит, было пережито им. И мне приходит в голову, что его незыблемая вера в воскресение, в будущую жизнь, основана на опыте, на действительно пepeжитой смерти и воскресении. Я разделяю его веру, хотя не знала ни смерти, ни воскресения, а только жизнь, реальную и радостную в любви, лишенную всякого смысла в период страха и ожидания, и прекрасную, когда дело жизни сделано и ждешь конца.
В пределах работы одного поэта есть разные уровни самопознания - от поэтического прозрения до игры. Слово "откровение" относится к области богопознания, но в каком-то смыс-ле все, что познает человек всеми видами восприятия физического ("Глаз - орудие мышления") и духовного, мышлением интеллектуальным и поэтическим, является особым даром человека и некоторого рода откровением. Мало того: поэтическая мысль проникает на большие глубины, чем философская и научная, потому что есть области, закрытые для чистого разума. Я говорю не только о потустороннем или о вещи в себе, но и о более простых вещах. Чистый разум абстрагируется, а потому не вмещает или даже игнорирует опыт текущей жизни, не вмещает его в себя, а поэт сохраняет целостность духовного и физического существования и претворяет внешний опыт во всей его конкретности во внутренний и духовный. В научном познании, возможно, тоже есть элемент игры, но далеко не в той степени, как в поэзии, которая по сути своей есть игра и духовное веселье, как сказано у Мандельштама. Именно игрой - игрой Отца с детьми - обусловлена целостность восприятия в поэзии и достигается полное единство внутреннего, духовного и внешнего опыта - слияние вечности и мгновения. Игра порождает радость, которая обозначается словом "легкомыслие". Без известной доли этого "легкомыслия" поэт неосуществим, и поэтому поэты всегда навлекают на себя неудовольствие тяжеловесных блюстителей порядка, особенно охранителей достоинства литературы, самых яростных ненавистников поэзии.
В глубинах и в игре - поэт всегда отличается спонтанностью и равен самому себе. Этим он и опасен для общественного порядка - его нельзя заставить произносить "заведомо разрешен-ные вещи", и трудно предугадать, что он скажет. В этом опять существенное отличие от актера. Спонтанность актера ограничена ролью и общим ходом представления. Личное начало выявляя-ется у актера только в комбинации с тем персонажем, которого он играет и чьи слова он произ-носит. В актере соединены двое. Он не играет, а представляет некоторое лицо, которое не есть он сам. Актер не отвечает за слова, кото
[330]
рые он выучил наизусть, потому что они принадлежат не ему, а персонажу, с которым он соединился. А поэт всегда отвечает за все. Он говорит только за себя и от себя. В объективированных жанрах поэзии, в поэме, скажем, или в балладе, которые являются сплавом поэзии и литературы, поэт все же сохраняет свой голос и лицо. Об этом есть любопытное замечание у Мандельштама по поводу Виллона: "Лирический поэт по природе своей двуполое существо, способное к бесчисленным расщеплениям во имя внутреннего диалога". Это свойство, названное им "лирическим гермафродитизмом", Мандельштам обнаружил у Виллона, но сам не имел его и говорил только за себя. Пастернак же в "Детстве Люверс" несомненно соединился со своей героиней, девочкой-подростком, и пережил с ней все события, свойствен-ные ее возрасту. Соединение в ранней повести гораздо глубже, чем в романе, где в диалогах Ларисы с доктором Живаго оба варьируют слова самого Пастернака (мне роман тем и мил, я его ценю гораздо больше аккуратно построенных романов, в которых действуют куклы или манеке-ны). У Пастернака, в лучших вещах бывшего поэтом ощущений, вероятно, была сильная потреб-ность в объективизации (он хотел увидеть себя как объект) и в расщеплении (выделении из себя иных граней и составов). Это и толкало его на объективированные жанры. В чистой лирике внутренний диалог можно чаще всего приписать раздвоенности духа, который ищет единства.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Вторая книга"
Книги похожие на "Вторая книга" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Надежда Мандельштам - Вторая книга"
Отзывы читателей о книге "Вторая книга", комментарии и мнения людей о произведении.