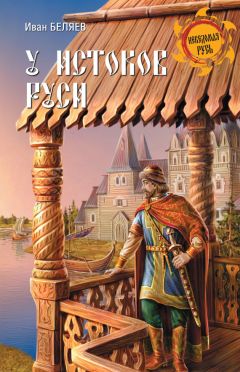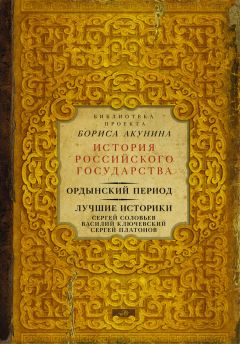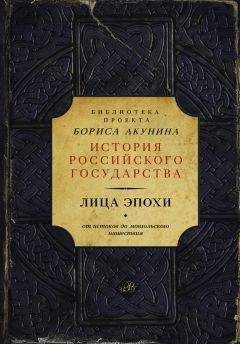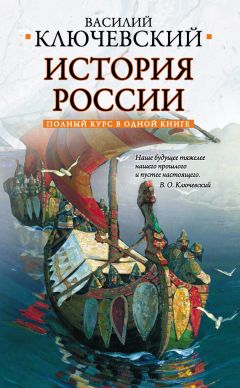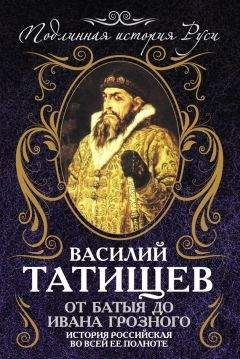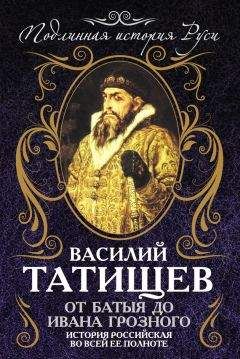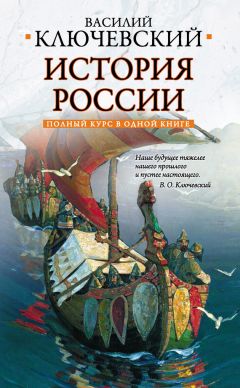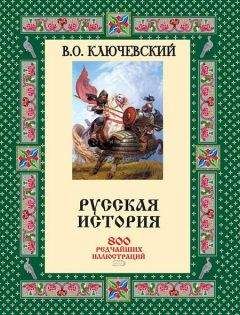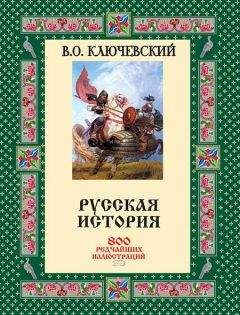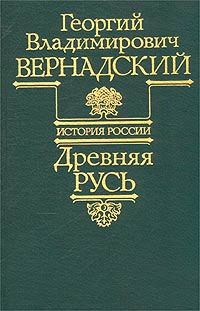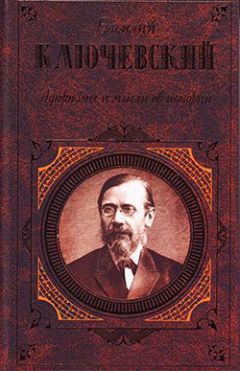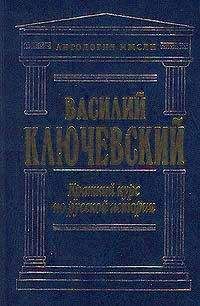Василий Ключевский - Афоризмы и мысли об истории
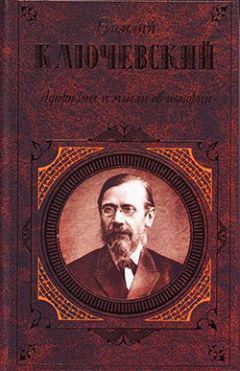
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Афоризмы и мысли об истории"
Описание и краткое содержание "Афоризмы и мысли об истории" читать бесплатно онлайн.
Василий Осипович Ключевский — выдающийся русский историк, академик, профессор Московского университета и Московской духовной академии, создатель научной школы — писал о событиях и фактах российской действительности увлекательно и доступно. Исторические портреты, дневники и афоризмы ученого — блестящего мастера слова — отражают его размышления о науке, жизни, человеческих достоинствах и недостатках.
«В жизни ученого и писателя главные биографические факты — книги, важнейшие события — мысли» — это высказывание В.О.Ключевского подтверждает вся его жизнь.
1.
[После 2З февраля 1889 г.]
Прежде дорожили лицом и скрывали тело, ныне ценят тело и равнодушны к лицу. Рисовали головки без корпуса вопреки природе, рисуют корпус с головкой и то лишь из вежливости к природе. Любили хорошее тело своей Оли, потому что оно Олино, ныне любят Олю, потому что у ней хорошее тело. Прежде инстинкт, как холоп, грубил и бунтовал, но и подвергался бичу, ныне он эмансипировался и пользуется уважением, как природный государь жизни. Чувство идет в ногу с обществ[енным] порядком: натурализм в искусстве, сенсуализм в морали соответствует демократии, как прежний идеализм.
Не ученый русский лингвист, а международный лингвистический аппарат.
Прежде в женщине видели живой источник счастья, для которого забывали физическое наслаждение, ныне видят в ней физиологический прибор для физического наслаждения, ради которого пренебрегают счастьем.
2.
[Около 10 апреля 1890 г.]
Они знают, может быть, больше, но понимают, несомненно, меньше. Они приходят к нам с умами возбужденными, но совершенно пассивными: умеют усвоять, впитывать в себя, но не умеют перерабатывать, переваривать. Они прочтут и изложат, что и сколько угодно; но задайте им вопрос, ответ на который они должны найти в том же, что они прочитали и изложили, — они не ответят ничего или ответят не на вопрос. Отсюда происходит одна печальная странность. Они довольно хорошо усвояют наши исторические курсы. Припоминая, чему их учил гимназ[ический] учитель истории, они видят, что в курсах нечто другое, — профессор говорит им не то, что говорил учитель; не противоположное, но и не похожее, а что-то совсем не то. Первый начал не то, что продолжил второй. Отсюда прежде всего мысль, что все, чему их учили в гимназии, лишнее, потом другая мысль, что все, чему их учили в у[ниверсите]те, следует, преподавать и в гимназии. Они, очевидно, не умеют связать унив[ерситетского] курса лекций с гимназ[ическим] уроком и делают двойную ошибку, неправильно ценят, чему их [учили] в гимназии, и неправильно сами учат в гимназии. Устранить эти ошибки и есть задача исторического семинария. Задача эта состоит в соглашении университ[етского] преподавания истории с гимназическим, а соглашение это должно быть достигнуто таким путем: нужно точно указать, что гимназич[еское] преподавание должно подготовлять для университетского и что университетское может сделать для гимназического. Что дает гимназическое преподавание для университетского? Говорят, кадры исторического знания: перечень царствований, войн, имен, дат. Гимназист переходит в университет с сердечным отвращением и презрением ко всему этому. Что делает университетское преподавание для гимназического? Говорят, смысл исторического знания: кандидат у[ниверсите]та является учителем в гимназию с фразеологией идей, отношений, интересов, фактов, явлений, законов. Выходя из гимназии в университет, он не знает, зачем ему то, чему он учился в гимназии; возвращаясь из университета в гимназию, он не знает, что ему делать с тем, что он узнал в у[ниверсите]те. На педагогическом жаргоне это отношение обоих учебных заведений выражается проще: гимназия-де дает факты, у[ниверсите]т — идеи.
В чем же теперь задача семинария? В том, чтобы показать, что ни то, ни другое неверно, что и гимназия и университет должны давать и факты и идеи, только первые д[олжны] давать свои факты и идеи, а у[ниверсите]т свои. Что бы сказал профессор-естествовед, если бы ему предложили в гимназии преподавать только опыты и наблюдения без законов, явления физические, а в у[ниверсите]те только законы без опытов и наблюдений? Произвести такой разрыв для разграничения программы, очевидно, невозможно, потому что он сделал бы гимназ[ическое] преподавание бессмысленной работой памяти, а университетское — безосновательной работой ума. Каждое реальное знание состоит из наблюдения и обобщения; только в физическом знании наблюдения делаются непосредственно, а в историческом иначе. Где же граница обеих программ? Она должна быть проведена не по составным элементам всякого исторического знания, а по свойству разных знаний. В истории, как и физике, есть факты и идеи и легкие и трудные. Из первых должен составиться элементарный курс истории, из вторых — высший; в первый войдут факты и идеи одного простейшего порядка, во второй — труднейшего. Таким образом, универс[итетский] курс будет не повторением и не пополнением гимназического новыми фактами и идеями того же порядка, а дальнейшей ступенью познания. Дело только в том, какие факты и идеи отнести к первому порядку и какие ко второму.
Логика в истории, что математика в естествоведении. Формулы той и другой принудительны: отсюда необходимы законы; где нет принуд[ительных] формул, там не мож[ет] б[ыть] законов. Психолог[ия] — только в происшествиях, не в фактах бытовых.
Известия в истор[ических] учебниках, что газетные сообщения. Это курьезы, болезненные судороги или пьяные гримасы историч[еской] жизни. […]
3.
[Не ранее 1892 г.]
[…] Прошедшего нет, но нельзя сказать, что его не было, иначе оно не было бы прошедшим.
История — зеркало — неосторожность.
4.
[После 20 марта 1893 г.]
Он принес на профессор[скую] кафедру много мельничной пыли: сын мельника мелет и на кафедре.
Студенческое бумажное жвачество (пережевывание бесконечное литографир[ованной] бумаги) — единственный метод изучения.
Не православные богословы, а свечегасы православия. Питаясь православием, они съели его и сходили на его опустелое место.
Научные калеки, ковыляющие на костылях науки.
Вид перерождения — отец любил деньги (хищ[ный] плут); сын любит монеты (нумизмат).
Археолог — ученый, закапывающий в могилы деньги, чтобы откопать после.
Он так щедро наделяет других глупостью, потому что не знает, куда девать ее.
Он сорит умом в надежде, что другие подберут его сор.
Признак русской культурности: в интеллигенции — быть приверженцем Англии, Франции и т.д., в купечестве — содержать англичанку, француженку и т.д.
Уменье открыть рот, но не закрыть его.
Николай требовал добродетельных знаков, не зная, как добиться самих добродетелей.
Человеку легче добраться мыслью до отдаленнейшего созвездия, чем до самого себя, и можно опасаться, что он доберется до себя, когда уже не останется ни одного созвездия.
Мысль бывает светла только, когда озаряется изнутри добрым чувством. Мысль — фонарное стекло, чувство — лампа, сквозь него светящаяся и освещающая людям дорогу их.
Крупные писатели — фонари, которые в мирное время освещают путь толковым прохожим, которые разбивают негодяи и на которых в революции вешают бестолковых, на Вольтере и Руссо перевешали франц[узских] аристократов.
Майков больше, чем тучный академик, не конкретность, а принцип — акаде[мическая] тучность.
Пыпин — дворник либералов — подметает, что они насорят и напакостят в печати.
Древнерусское миросозерцание: не трогай сущ[ествующего] порядка, ни физического, ни полит[ического], не изучай его, а поучайся им, как делом Божиим.
Знание в чистом виде пугало, как вид анатомированного трупа: человек простой в ужасе, когда ему покажут его самого без покрытий.
Как приручалась р[усская] мысль к знанию научному, добиралась до него какими шагами:
1. Первое внимание возбуждалось житейскими плодами знания: технические удобства, ремесла, мастерства. Утилитарность, понимание пользы знания — первый шаг. Взгляд деловых людей XVII в. Как прежде ведущие писание — советники г[осу]д[а]ря, так при Петре пораб[отавшие] мастера — министры — Головин, Меншиков.
2. И_з_у_м_л_е_н_и_е пред размерами, количествами цивилизации. Первые путешественники; их сходство с паломниками. Патология.
3. Гастрономия цивилизации, вкус личного комфорта. Ученики, посланные за границу отведать культуры.
4. Знание, как средство гражданского воспитания для служения г[осу]д[ар]ству и обществу.
Татищев. Подкладка: г[осу]д[ар]ственная повинность — в гражданский долг. Сам Петр сюда же.
Параллель усвоения восточного и западного влияний.
Грубость стародумовского общества измеряется необходимостью доказывать материальную пользу добродетели.
Затруднение для р[усского] историка: только детство народа ему доступно, тогда как империя, созданная этим народом, такова, что римская orbis t[errarum][4] лишь Новороссийская губерния.
Каждое из этих отношений не ставило новых интересов подле старых, а заменяло старые новыми, не расширяло, а перестраивало миросозерцание; взгляд не становился многостороннее, а только повертывался в другую сторону. Но на новые предметы человек смотрел прежними глазами, на новые задачи, мысли и чувства переносились прежние приемы мышления и чувствования. Вступив в новый мир, он также не изучал его строения и склада, принимал его за свой готовый исконный и вечный образец; только набожное благоговение перед старым заменялось неврастеническим изумлением, и, как прежде, попав в Иерусалим или на Афон, среди святынь и образцов подвижничества, он воскликнул: «Вот все, что нужно человеку для спасения», так и теперь, окруженный дивами амстердамской кунсткамеры или соблазнами парижского ресторана, он готов б[ыл] воскликнуть: «Вот все, что нужно человеку (для счастья)».
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Афоризмы и мысли об истории"
Книги похожие на "Афоризмы и мысли об истории" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Василий Ключевский - Афоризмы и мысли об истории"
Отзывы читателей о книге "Афоризмы и мысли об истории", комментарии и мнения людей о произведении.