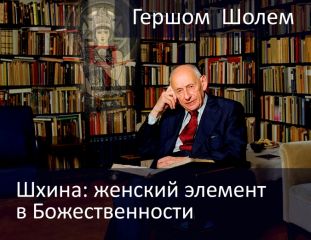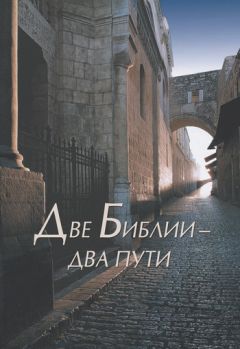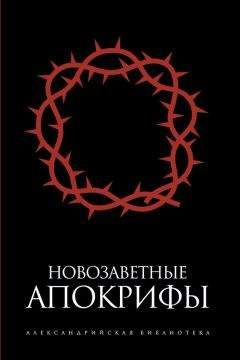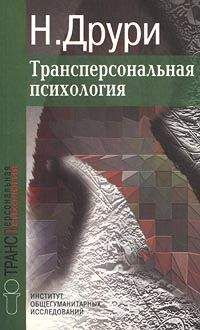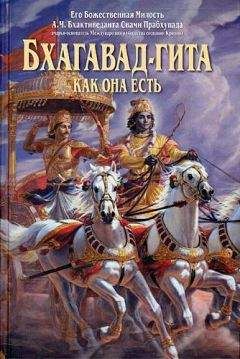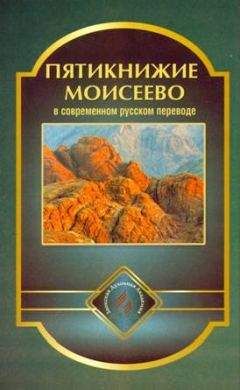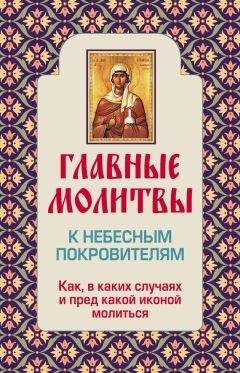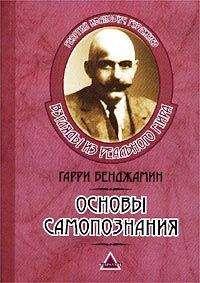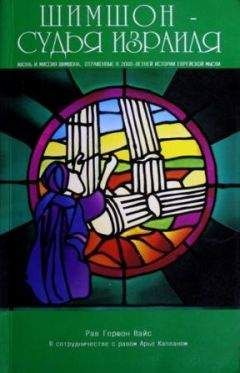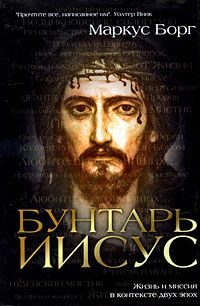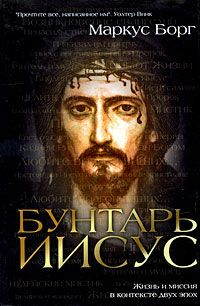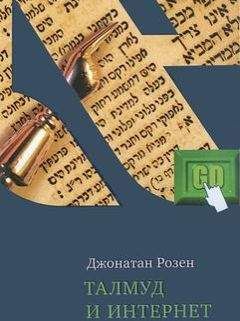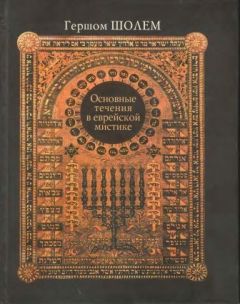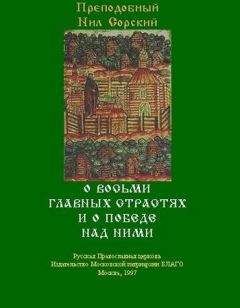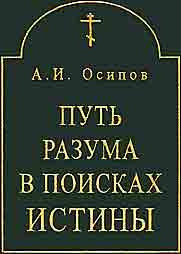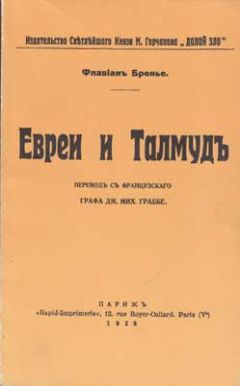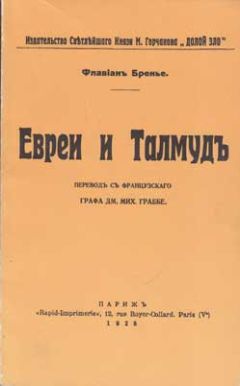Гершом Шолем - Основные течения в еврейской мистике
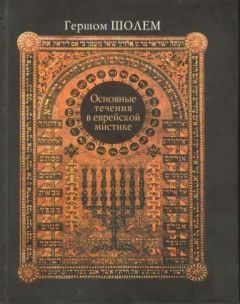
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Основные течения в еврейской мистике"
Описание и краткое содержание "Основные течения в еврейской мистике" читать бесплатно онлайн.
5
Важнейшими источниками, позволяющими судить об этом умонастроении, служат многочисленные молитвы и гимны, дошедшие до нас в трактатах «Хейхалот» [LX]. Традиция считает их вдохновленными свыше, ибо в представлении мистиков это были гимны, возносимые ангелами, даже самим Престолом, во славу Господа. В 4 главе «Больших Хейхалот», в которой этим гимнам отводится видное место, мы находим рассказ о том, как душа рабби Акивы, олицетворяющего визионера Меркавы, достигнув вершины экстаза и представ пред Престолом славы, услышала, как Престол и ангелы поют эти гимны. Но последние не только вдохновляются свыше, но и сами способны приводить душу в состояние экстаза и сопутствовать ей при её восхождении через врата. Некоторые из них – это просто взывания к Богу, другие – диалоги между Богом и небожителями и описания мира Меркавы. Напрасно пытались бы мы обнаружить какие-либо религиозные идеи и тем более мистические символы в этих гимнах, принадлежащих к старейшим творениям синагогальной поэзии, называемым пиютим. Часто они до курьеза бессмысленны, что не мешает им производить сильное впечатление.
Рудольф Отто в своей известной книге «Идея святого» проводит различие между чисто рационалистическим прославлением Бога, в котором всё ясно, определённо, знакомо и понятно, и прославлением, затрагивающим источники иррационального, или, пользуясь его выражением, нуминозного [62], и стремящимся вербальными средствами воспроизвести mysterium tremendum (тайны устрашающей - лат.), вселяющее благоговейный ужас таинство, сопровождающее Божественное величие. Отто назвал эти сочинения «нуминозными гимнами» [LXI]. Вся еврейская литургия, а не только литургия мистиков, изобилует ими, и из неё Отто заимствовал несколько наиболее значительных своих примеров. Книги «Хейхалот» служат неисчерпаемым кладезем таких нуминозных гимнов.
Невероятная торжественность языка, нагромождение высокопарных фраз отражает внутреннюю парадоксальность этих гимнов: вершина возвышенности и торжественности, которой может достигнуть мистик, стремясь выразить великолепие своего видения, оборачивается верхом бессодержательности. Филипп Блох, впервые проявивший большой интерес к этой парадоксальности, пишет о «чрезмерном, чисто плеонастическом [63] скоплении однозначных и однозвучных слов, ни в малейшей мере не стимулирующих процесс мышления, а только отражающих борение чувств» [LXII]. Но в то же время Блох обнаруживает понимание того, что этот бессодержательный и всё же возвышенный пафос может произвести магическое действие на молящихся, например, при чтении этих гимнов в Судный День [LXIII]. Быть может, самый известный пример этого рода гимнов – это литания Га-адерет ве-га-эмуна ле-хай оламим, которая содержится со всей полнотой вариаций в «Больших Хейхалот» и включена в литургию праздников. Ещё средневековые комментаторы молитвенников обозначали её как «Песнь ангелов» [LXIV], и, вероятно, она требовала от молящихся величайшего благочестия и сосредоточенности. Но едва ли была необходимость в формальном требовании такого рода, ибо для того, чтобы воочию убедиться в могучем влиянии, оказываемом этими несравненными в своей торжественности и вместе с тем совершенно бессодержательными гимнами, то есть, чтобы обнаружить их нуминозный характер, достаточно даже в наши дни посетить любую синагогу. Неудивительно, что и поныне многие хасиды каждую субботу утром поют этот гимн. Далее я привожу приблизительный перевод текста, который представляет из себя совершенную мешанину из восхвалений Бога и перечисления атрибутов «Его, Дарующего жизнь мирам» [LXV]
Могущество и верность Его, Дарующего жизнь мирам,
Разумение и благословение Его,
Дарующего жизнь мирам,
Гордость и величие Его, Дарующего жизнь мирам,
Разум и речение Его, Дарующего жизнь мирам,
Сияние и великолепие Его, Дарующего жизнь мирам,
Совет и утверждение Его, Дарующего жизнь мирам,
Блеск и лучезарность Его, Дарующего жизнь мирам,
Сила и непоколебимость Его, Дарующего жизнь мирам,
Почет и чистота Ему, Дарующему жизнь мирам,
Един и грозен Он, Дарующий жизнь мирам,
Венец и Слава Его, Дарующего жизнь мирам,
Назидание и мудрость сердца от Него, Дарующего жизнь мирам,
Царство и правление Его, Дарующего жизнь мирам,
Прекрасен и победоносен Он, Дарующий жизнь мирам,
Недосягаем и непостижим Он, Дарующий жизнь мирам,
Мощь и смирение пред Ним, Дарующим жизнь мирам,
Спасает и прославляет Он, Дарующий жизнь мирам,
Совершенен и справедлив Он, Дарующий жизнь мирам,
[Ангелы], взывая [друг к другу],
провозглашают святость Его, Дарующего жизнь мирам,
Гимны и превознесение Ему, Дарующему жизнь мирам,
Песнь и хвала Ему, Дарующему жизнь мирам,
Воспет и великолепен Он, Дарующий жизнь мирам.
Этот гимн на языке оригинала являет собой классический образец литании, составленной в алфавитном порядке, литании, которая заполняет воображение истово молящегося блистательными образами, облаченными в великолепную форму. Смысл отдельных слов при этом не играет роли. Вот что пишет об этом Блох:
«Бога славословят не так, как псалмопевец, либо изображающий чудеса творения как доказательство величия и славы Творца, либо подчеркивающий элемент Божественного милосердия и руководства в истории Израиля, элемент, позволяющий оттенить мудрость и человеколюбие Промысла. Это просто вознесение хвалы Богу, и оно отличается таким многословием, как если бы существовала опасность того, что какой-либо причитающийся Богу почётный титул будет забыт» [LXVI].
Другой отрывок из гимна «Зогарариэлю, Адонаю, Богу Израиля» в «Больших Хейхалот» гласит: [LXVII]
Трон Его излучает сияние перед Ним, и чертог Его исполнен великолепия.
Величие Его пристало Ему, и слава Его украшает Его.
Слуги Его поют пред Ним и возглашают могущество чудес Его.
Ибо Он Царь царей и Владыка владык.
Его окружают вереницы корон, обступают ряды князей Блеска.
Мерцанием Своего луча обнимает Он небеса,
Его сияние струится от высот.
Бездны извергаются пламенами из Его уст,
И тело Его исходит искрами небосводов.
Почти все гимны из трактатов «Хейхалот», в особенности те из них, чей текст сохранился без изменений, развёртываясь, подвластны той же динамике, что и запущенный огромный маховик. В цикличном ритме они сменяют друг друга, и взывания к Богу переходят в крещендо великолепных и царственных атрибутов, каждый из которых акцентирует и усиливает звуковую силу мира. Монотонность ритма – почти для всех из них характерна четырехсловная стихотворная строка – и нарастание звуковой силы заклинаний вызывают у молящихся душевное состояние, граничащее с экстазом. Существенную роль здесь играет повторение ключевой формулы троекратного освящения из Исайи (6:3), при произнесении которой экстаз мистика достигает кульминации: «Свят, свят, свят, Господь Воинств!» Трудно представить себе более неопровержимое доказательство неодолимого воздействия, производимого идеей Царства Божьего на сознание этих мистиков. «Святость» Бога, которую они пытаются перефразировать, лежит по ту сторону от какого-либо морального смысла и представляет собой лишь славу Его Царства. Посредством различных форм молитвы, известной под именем кдуша, эта идея «святости» Бога стала интегральной частью общей еврейской литургии и наложила на неё свой отпечаток [LXVIII].
Но вопреки последнему обстоятельству, «полилогия», или многословие мистиков, эти высокопарные потуги уловить отблеск Божественного величия и сохранить его в форме гимна, находятся в разительном контрасте с идеями, которыми уже в талмудическую эпоху руководствовались в своём взгляде на молитву великие законоучители. Талмудисты считали такое пустословие чуждым иудаизму, и в Талмуде обнаруживается отрицательное отношение к чрезмерному рвению в молитве, подобно тому, как в Нагорной проповеди подвергается критике словоблудие язычников. Следующие отрывки из Талмуда воспринимаются как осуждение тенденций, отражённых в трактатах «Хейхалот»: «Чрезмерно восхваляющий Бога изводится из мира». Или: «В присутствии рабби Ханины некто подошёл к амвону прочесть молитву. Он воскликнул: «Боже, Ты великий, сильный, грозный, могущественный, страшный, могучий, сущий и достохвальный!» Рабби Ханина дождался, когда он дошёл до конца, и спросил у него: «Ты уже перестал славить своего Бога? Для чего всё это? Это всё равно, что превозносить Царя вселенной, имеющего миллионы золотых монет, за обладание одной серебряной монеткой» [LXIX].
Но противодействие этой восторженности и пустословию как явлениям, претящим классической простоте и рациональности основных молитв еврейской литургии, не привело ни к каким результатам. Свидетельством этому служат не только молитвы и гимны мистиков Меркавы, но и некоторые существенные элементы самой литургии, формировавшейся не без влияния движения йордей Меркава. Блох первым отметил, что коллективная молитва, в своей окончательной форме возникшая в позднеталмудическую и послеталмудическую эпоху, была компромиссом между этими двумя взаимоборствующими тенденциями. Некоторые из этих молитв гораздо более раннего происхождения, чем предполагал Блох, не обративший внимания на некоторые отрывки из Иерусалимского Талмуда и относивший любую молитву, в которой упоминались ангелы Меркавы, к послеталмудическому периоду [LXX]. Но так как мистическое направление йордей Меркава в целом возникло гораздо раньше, чем полагали Цунц, Грец и Блох, и могло существовать в Эрец-Исраэль уже в IV веке, то это обстоятельство не противоречит нашей точке зрения.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Основные течения в еврейской мистике"
Книги похожие на "Основные течения в еврейской мистике" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Гершом Шолем - Основные течения в еврейской мистике"
Отзывы читателей о книге "Основные течения в еврейской мистике", комментарии и мнения людей о произведении.