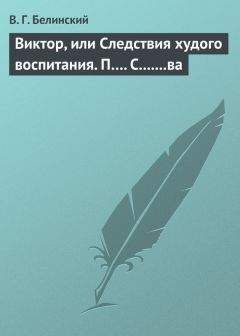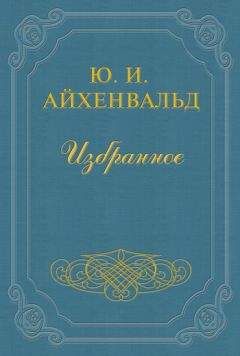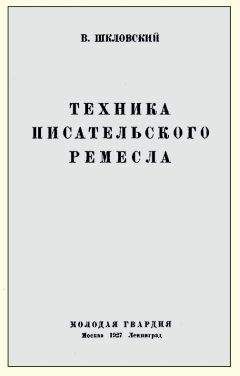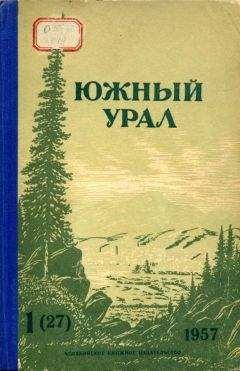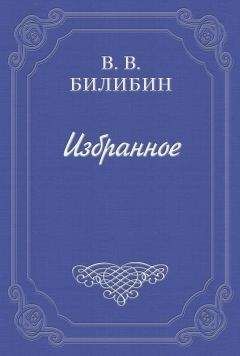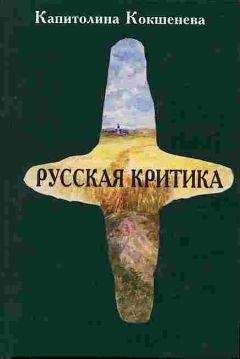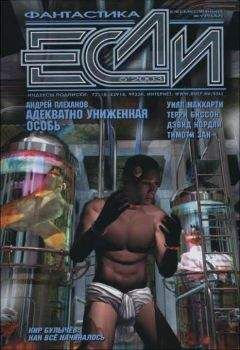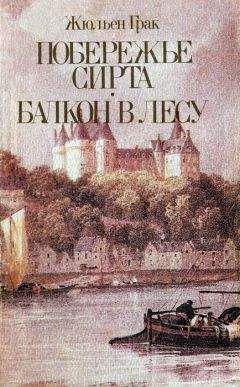Сергей Сиротин - Виктор Пелевин: эволюция в постмодернизме
Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Виктор Пелевин: эволюция в постмодернизме"
Описание и краткое содержание "Виктор Пелевин: эволюция в постмодернизме" читать бесплатно онлайн.
В эссе “Зомбификация”, вышедшем ранее, Пелевин не только продемонстрировал несоциальную критику советского строя, но и раскрыл метод большинства будущих произведений. Несоциальность критики состоит в том, что писатель слишком хорошо понимает бессмысленность разговора о советском человеке на рациональном уровне. Советские условия — это безальтернативность и унификация, и действительность здесь перестает быть восприимчивой к каким-либо рациональным аргументам. Отсутствует сам язык, на котором их можно было бы выразить, — нечто подобное было у того же Оруэлла в “1984”. На понимании этого покоится благородство позиции Пелевина. Ведомые бессознательными силами, советские люди в его изображении не выглядят дураками, даже если отождествляются с зомби. Они заслуживают не привычного презрения с позиции западного индивидуализма, а того, чтобы их язык был понят. Поэтому и сама зомбификация — это не ругательство, а метафора уязвимости человека перед архаичными инстинктами. Сходство советских реалий и вудуистских обрядов может выглядеть просто оригинальным наблюдением. Но также оно указывает на непрочность современного сознания вообще, его неустойчивость, вызванную постоянными тектоническими сдвигами бессознательного. Геологическую аналогию проводит сам писатель, говоря в “Бульдозере” о “психическом котловане”, в который проваливаются строители “нового человека”.
Вообще, лобовая критика поздней советской действительности исходила из жажды свободы. Она карала преступления и скудоумие руководителей — и тем самым ориентировалась на социальные аспекты. Пелевин обратился к психическим основам, став проводником другой традиции, менее озабоченной социальным миром и куда больше — широкими основами действительности. “Зомбификация” (как и “Омон Ра”) не является традиционной критикой советского мифа, потому что это не критика одного государственного устройства в пользу другого. Это критика с более широких оснований, не нуждающаяся в обращении к, скажем, демократическим ценностям. Если здесь уместно говорить о цели, то ее цель в том, чтобы выявить фундаментальные культурологические мотивы.
“Жизнь насекомых”, “Чапаев и Пустота”, “Generation “П””. Постмодернизм и профанация сакрального
Такими мотивами, вернее, их остатками, удивителен роман “Жизнь насекомых”. Удивителен рудиментарной сакральностью, сохраняющейся в постмодернистском тексте. Это не синтез, а именно причудливое сосуществование сакрального и постмодернистского. В отличие от “Омона Ра”, здесь некое высшее размышление не требует индивидуальной жизни в качестве пролога. Оно заимствуется из готовых архетипических сюжетов, некоторые из них, как, например, сюжет о жуках, катящих перед собой навозный шар, в чистом виде взяты из мифологии. Однако обращение к мифам и адаптация их к повседневной реальности уже не имеют высокого модернистского смысла. Пелевин выбирает путь постоянной игры, где все представления постоянно пересматриваются. Это касается не только содержательных высказываний персонажей, но и самой техники съемки, когда временные и геометрические превращения все время требуют перестройки взгляда. Игрой на геометрическом масштабе в романе создается двумерная картина, в которой люди проживают одновременно жизнь обычных людей и насекомых. Но если одна жизнь и дополняет другую, то не до какой-то полноценности — речь идет только о полноценности бессмысленности. Жизни человека и насекомого взаимопроникают, но никакой из них не дается права называться первичной, или истинной. В этом нет кафкианской боли существования, у Пелевина вообще нет трагичности, скорее есть игрушечность, легкий гротеск, который не ставит себе задачей сказать что-либо от имени сильного чувства. Все условно серьезно и безусловно бессмысленно, есть свет, и к нему можно лететь — остальное имеет еще меньше значения. Пелевин, похоже, сам не уверен, так ли много смысла в искусстве, поэтому ему интереснее обыгрывать его, чем воспринимать всерьез.
В такой ситуации сакральное находится под угрозой профанации. Чтобы уловить его, придется расширить его понимание. В традиционном смысле Пелевин не может стремиться к сакральному. Поскольку он стремится к “ничто”, то дискредитирует веру в любой реальный мир. Постулат об иллюзорности реальности защищается им всеми средствами, чему также сопутствуют интеллектуально суицидальные наклонности в духе буддийских сутр. Вывод неизбежен: когда нет избранной реальности, нет сакрального. В то же время виден момент поиска света, который извлекается из подножного бытового убожества. Видна частная жизнь, которая проигрывает мифу. Видна незначительность мира вообще рядом с тем, что может дать подлинное знание. В десакрализованной современности, если брать ее саму по себе, этому нет места. Следовательно, пелевинское сакральное нужно определять бессодержательно, от противного: оно обретается там, где угасают частные жизни и куда не доходит разрушительная ирония. О своем отношении к земному миру Пелевин дает понять уже эпиграфом из Бродского — мир насекомых с его ложно понятой свободой неприемлем и может быть растворен в постмодернистской игре.
В следующем романе “Чапаев и Пустота” сакральному приходится выживать в более жестких условиях. Впрочем, оно и не выживает, потому что здесь Пелевин больше не ведет работу по его реабилитации. В “Жизни насекомых” мифологические сюжеты резонировали с повседневностью, и это было реальным методом движения к истине религиозного порядка. В “Чапаеве и Пустоте” метода нет, остался лишь калейдоскоп ситуаций, искусственно нанизанных на сюжет об иллюзорности мира. Истины Пелевина стали назывными. Вместо того чтобы подтверждать их, он подводит под них мобильный дискурс произвольного исторического или культурного плана. Известно растиражированное признание писателя о том, что это “первый роман в мировой литературе, действие которого происходит в абсолютной пустоте” . Вряд ли с этим можно согласиться. В сущности, пустоты в романе вообще нет. По крайней мере, такой, которую иногда дано познать человеку, — равнодушно обгладывающей его до голого сознания, нигде не находящего утешения и жалеющего о самом факте своего существования. Речь, разумеется, могла бы идти о пустоте не как бессодержательности, а как равнодушии, равнозначности, о бодрийяровском “аде того же самого”. Но и такой пустоты нет. Ни в одной из полудюжины реальностей, выведенных в “Чапаеве и Пустоте”, персонажи почти не делают оглядок на себя и свою жизнь, а если и оглядываются, то это ничего не дает — кроме повода подвести одну галлюцинацию к другой. В своих реальностях они заперты вместе со своими мыслями и не перерастают этой тюрьмы.
Когда Пелевин говорит “пустота”, он имеет в виду лишь то, что перед лицом “ничто” одна реальность не истиннее любой другой. Но при этом он не создает никакого механизма отрицания мира. Борьбы против мира у него нет вообще, он может бороться с реальностью, разве что делая все ее виды поставщицами анекдотов. В итоге мир всегда самоотрицается чудесным образом, в свете чего неудивительно и отсутствие у человека реальной тоски по “ничто”. Пелевинская пустота не встречает нас мраком и не вводит в отчаяние, она не то что терпима, а даже приемлема. В ней можно сносно существовать, она может поглотить нас без боли, более того, может отвлечь от тягостных мыслей. Чтобы понять ее, мы следуем за бесконечными интенциями об иллюзиях и заключаем, что пустота, по Пелевину, есть бессмысленность опыта. Но эта мысль куплена слишком подозрительным сотрудничеством с современностью. Кажется, что в борьбе с ее знаками Пелевин не заметил, что уже обязан им. Стоит ли говорить здесь о заявленной новизне? Провести переоценку мира, связав ее с дискредитацией или уничтожением последнего, пытались не то что отдельные интеллектуалы, а целые направления вплоть до киберпанка.
В романе главное не пустота, а опыт пассивности в отношении к миру. Изображение того, как движутся сырые куски информации, когда человек на них не смотрит. Текст более чем безличен: он не предназначен для защиты чьей-либо позиции, не олицетворен для диалога и не требует веры в себя. Это достигается не только иронией, но и произвольностью структуры. Не только главы сцепляются друг с другом через случайные детали, но и сам текст готов к вторжению любых образов, какими бы чужеродными они ни были. Соседство Чапаева и Шварценеггера могло бы, конечно, рассматриваться как просто “высосанность” — в конце концов, на их месте мог быть кто угодно. Но именно эта “высосанность” и открывает, что есть на самом деле сознание современного человека. Оно есть синоним всякого порабощения, белый флаг, выносимый навстречу любому факту и событию. Пелевин решил продемонстрировать это без пастеризации реальности. Вообще, ее изображение у Пелевина иногда обвиняют в непроработанности, дешевизне, но не хотел ли он сам сделать его таким? Разве стилизация не является его принципом не в силу неумения писать по-другому, а в силу того, что сам мир воспринимается им как работа стилиста? Отсюда и берет начало его “постмодернизм”, агрессивное торжество лубка, — уже потому, что специфическому опыту отказано в ценности. Сегодня не нужно работать в японской компании, чтобы описывать ее будни без штампов, — сама реальность ничего не сделала, чтобы их избежать. Так возникает тема одиночества перед лицом действительности, а не других людей, в этом же, возможно, и одна из причин эффекта миддл-литературы. Получается, что социальное интересует Пелевина не в его природе, а лишь в экстатических эффектах на мир субъекта, часто туповатого обывателя, которого он, выводя за пределы отношений с людьми, стравливает с оголенной и неодушевленной действительностью. В таком смысле это логический предел экзистенциальной темы, хотя ее вырождение в иронию все же сильно дискредитирует столь высокий контекст.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Виктор Пелевин: эволюция в постмодернизме"
Книги похожие на "Виктор Пелевин: эволюция в постмодернизме" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Сергей Сиротин - Виктор Пелевин: эволюция в постмодернизме"
Отзывы читателей о книге "Виктор Пелевин: эволюция в постмодернизме", комментарии и мнения людей о произведении.