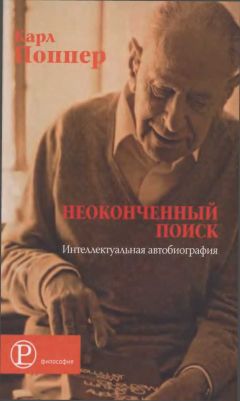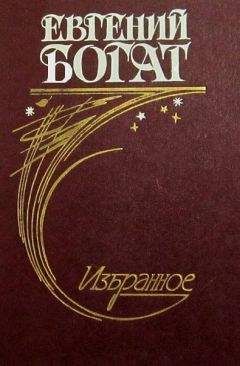Яков Голосовкер - Избранное. Логика мифа

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Избранное. Логика мифа"
Описание и краткое содержание "Избранное. Логика мифа" читать бесплатно онлайн.
Яков Голосовкер (1890–1967) — известный филолог, философ и переводчик. Его отличает мощное тяготение к двум культурным эпохам: Элладе и немецкому романтизму. Именно в них он видел осязаемое воплощение единства разума и воображения. Поиск их нового синтеза предопределил направленность его философского творчества, круг развитых им идей. Мысли Голосовкера о культуре, о природе культуры вписываются в контекст философских исканий в Европе в XX веке. Его мысль о естественном происхождении культуры как способности непосредственно понимать и создавать смыслы, о том, что культура «эмбрионально создана самой природой» представляет интерес для современного исследователя. Философские и теоретические идеи известного русского мыслителя XX века Голосовкера приобретают особое звучание в современном научном дискурсе.
В том вошли следующие работы: «Имагинативный Абсолют», «Достоевский и Кант», «Миф моей жизни» и др., а также статьи А. П. Каждана, Н. И. Конрада, С. О. Шмидта, Е. Б. Рашковского и М. А. Сиверцева о Голосовкере.
Издание работ Якова Голосовкера — известного специалиста по античной литературе, мифологии, писателя, одного из образованнейших и глубоких мыслителей нашего времени — представляется своевременным и необходимым. Перед нами интересная и умная книга, которая будет с радостью воспринята всеми, кому дорога русская культура и культура вообще.
Здесь дальнейший комментарий не нужен. Но возникает вопрос: к какому случаю приложим смысл «реализм»: к уличному беспорядку — хаосу, организованному безумным милиционером, или к трагическому хаосу души Гамлета в трагедии Шекспира (или же к тому и другому)?
Начнем сначала.
Фотография есть отражение. Из отражения сконструирована современная теория отражения для искусства. Но и по трафарет — но понимаемому Платону — вещи суть тоже отражение идей, искусство есть тоже отражение вещей. Мы имеем вторую теорию отражения для искусства. История прикрыла одну другой. Теорию реализма для искусства дал впервые Аристотель: так принято знать. Но софисты-теоретики высказывались до Аристотеля. Их высказывания были известны и Платону, и Аристотелю. Предупреждая пока изыскания по поводу софистов, допустим, что софисты также уже высказались о реализме. Это пока история проблемы «реализм». Оставим историю временно в стороне. Будем наивны. Будем рассматривать вопрос о реализме изначально как новую проблему. Предпошлем ей заявление: фотография не есть реализм, а есть натурализм — отражение натуры. Пейзаж подлинного живописца — Рейсдаля, Коро, Левитана — есть не отражение природы, а есть ее имагинативная реальность. В пейзаже Коро перед нами имагинативное дерево среди поля, а не просто дерево среди поля. Оно вечное дерево среди поля, в то время как дерево среди поля вообще есть обычное долгоживущее дерево. Одно — дерево в искусстве, другое — дерево в природе. Каждое из них может быть красивым деревом, но красота у них разная: красота «дерева природы» изменчива и с необходимостью уничтожается, красота «дерева искусства» постоянна и неуничтожима (в принципе). Краски на картине могут пожухнуть, и внешний образ ее дерева может исчезнуть, но в сознании культуры образ этого дерева, точнее, его смыслообраз, остается — по крайней мере, в принципе останется. Более того, дерево, которое умирает под топором дровосека в рассказе «Три смерти» Л. Толстого, будет, умирая вечно, падать так, как оно падает в рассказе Толстого. Я с детства слышу и вижу это падение и слышу свист малиновки, перепорхнувшей с его ветвей:
«Дерево вздрогнуло всем телом, погнулось и быстро выпрямилось, испуганно колеблясь на своем корне. На мгновение все затихло, но снова погнулось дерево, послышался треск в его стволе, и, ломая сучья и спустив ветви, оно рухнулось на сырую землю».
Оно будет вечно всякий раз умирать и именно так, как оно умирает у Толстого. И очеловеченность этого умирающего дерева с его человеческим предсмертным испугом также останется при нем навсегда. Я видел в юности дерево в поле, расщепляемое грозой. Этого дерева уже нет: от него осталось только лично мое воспоминание. Но это воспоминание связано не с мировой культурой, а с моей биографией, и только через меня оно еще может смутно существовать как далекое воспоминание о впечатлениях далеких дней моей юности. Творческая имагинация здесь не участвует. Здесь еще нет искусства.
Дерево в поле на пейзаже Коро, умирающее дерево в рассказе Толстого и есть реализм, есть имагинативная действительность — действительность культуры, чем и является реализм. Если же мы в пейзаж живописца будем вклеивать фотографии: фото дерева, фото куска поля, фото фигуры пастуха или коровы, то пейзаж перестает быть художественным реализмом, а становится монтажом натурализма, отражением натуры, ибо, повторяю, реализм искусства есть имагинативный реализм, а не фото-натуральный реализм.
Красивая натурщица может эмоционально взволновать чувство мужчины-зрителя сильнее, чем ее портрет в образе Венеры. Но красота натурщицы взволнует именно биологическое чувство зрителя. Оно может захватить и воображение зрителя, но только в плане сексуальном — жаждой обладания или мечтой об обладании этой красивой женщиной — натурщицей. Портрет же этой натурщицы как образ Венеры, для которого она позировала, взволнует зрителя и его воображение иначе: он взволнует воображение эстетически, т. е. взволнует его образом как смыслом красоты, воплощенной в богине Венере. Этот ее портрет в образе Венеры запомнится зрителю не как портрет натурщицы, а именно как образ «Венера», и этот образ будет существовать для него, быть может, в течение всей его жизни и останется жить в веках, в то время как образ натурщицы забудется. Этот образ «Венера» получает таким образом имагинативную реальность и бытие, ибо «бытие» может быть только имагинативным, может быть только предметом разума воображения, в то время как «быт» есть то же, что чувственно воспринимаемая природа: например, красивая натурщица. Этот быт и эта натурщица относятся к натуральному, пока под пером какого-нибудь Достоевского или Гаршина[75] этот «быт» с натурщицей не превратится в трагедию и тем самым также предстанет «реализмом», т. е. имагинативным бытом, получившим право быть «бытием».
3. Интересная реальность
Эта реальность называется имагинативный реализм. Мы живем в кругу «особо близких», и эти «особо близкие» обладают не существованием, а обладают для нас полным бытием. Эти «близкие» прежде всего герои литературных произведений — герои романов, поэм, драм… Это также и «авторы» таких произведений, создатели высших ценностей культуры — художественных творений. Когда мы говорим запросто «Татьяна», или «Наташа», или «Вера», наш слушатель знает, что это Татьяна Ларина, Наташа Ростова и Вера из «Обрыва» Гончарова. Все они из круга «особо близких» мне и моему слушателю. Они не умирают. Они бессмертны. Они окружают меня и в мой предсмертный час, и я знаю: они не живут неведомой загробной жизнью, они живут рядом со мною вечно, даже тогда, когда они умирают на страницах романа. Таков интересный случай мнимой смерти — смерти иллюзорной. Таковы и их «авторы». Кто может назвать в России человека, для которого Пушкин умер? В то время как многие существующие поэты уже мертвы без могилы, шагая по тротуарам столицы. Они мертвы не потому, что их не печатают. Наоборот, — чем их больше печатают, тем они мертвее. И еще раз «наоборот»: часто те, которых не печатают, те именно живут, хотя бы их тела были сожжены. Не правда ли: интересная реальность.
Живут бессмертной жизнью не только герои художественных произведений и славой увенчанные имена авторов. Живут и идеи, созданные разумом воображения мыслителей, — идеи философских произведений, воплощенные в смыслообразы. Они тоже наши близкие из бытия, бытия культуры, за которое иной автор жертвует своим существованием, настолько для него высока ценность этого «бытия культуры». И ведет его на жертву самый высший инстинкт человека — инстинкт культуры, который в нем сильнее инстинкта самосохранения. Созданным им творением он обретает «бытие» в культуре.
Как ни странно, но эти «близкие-из-бытия» им многим ближе, чем их родные, друзья и знакомые. Эти особо близкие из бытия для них реальнее, чем близкие из существования.
Итак: есть близкие-из-бытия — имагинативные образы и идеи с их смыслообразами, созданные разумом воображения, и есть близкие-из-существования — живые существа нашего обихода и быта.
Рядом с ними есть и близкие предметы, особенно иные книги и картины, которые также бывают для нас большей реальностью, чем реальность вещей нашего быта, даже порой бывают для нас реальнее, чем пища: увлеченные книгой, мы забываем об обеде. Иногда мы не покупаем хлеба, а покупаем на последние деньги книгу. Это значит, что высший инстинкт культуры оказался в нас сильнее низшего вегетативного инстинкта. На удивление всем скептикам это случается с каждым из нас. Так могуче наше воображение. Так интересна для нас его имагинативная реальность.
4. Романтика и классика как смыслообразы художества и как категории эстетики
Мы берем термины «романтика» и «классика» как два смыслообраза, две идеи, которые могут быть рассмотрены и как категории эстетики. Характерные черты смыслообраза «романтика» это — абсолютность, сверхъестественность и сверхнорма во всем внешнем и внутреннем: в страсти, в морали, в уме, в поступках, особенно в жертвенности и героизме, в красоте и уродстве, в низости и злодействе, в сострадательности и равнодушии, а также в неожиданном, подчас трагическом повороте в противоположную сторону — «наперекор», когда дьявол превращается в ангела, а ангел в дьявола. И наконец, как особая чёрта преимущественно немецкой романтики: глубина неопределенности. Еще одна особенность романтики как смыслообраза: ей если не все, то по крайней мере очень многое позволено в силу того, что «романтизм» заранее морально оправдан, т. е. для героя-романтика есть всегда романтическое оправдание. Характерные черты смыслообраза «классика» (отнюдь не в смысле античности): определенность, четкость, цельность и мера — с тенденцией к «образцовости» — к норме, к канону. «Классика» как смыслообраз антистихийна.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Избранное. Логика мифа"
Книги похожие на "Избранное. Логика мифа" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Яков Голосовкер - Избранное. Логика мифа"
Отзывы читателей о книге "Избранное. Логика мифа", комментарии и мнения людей о произведении.