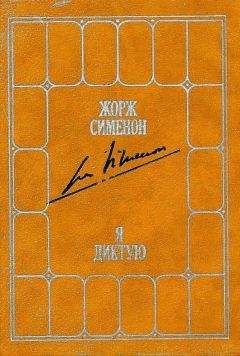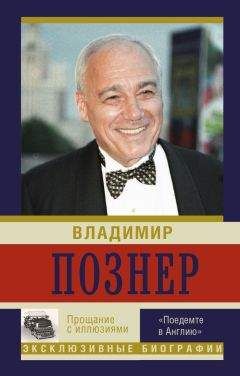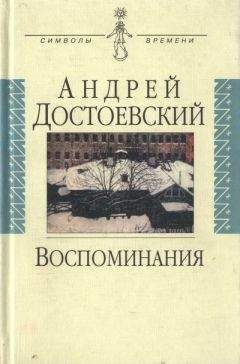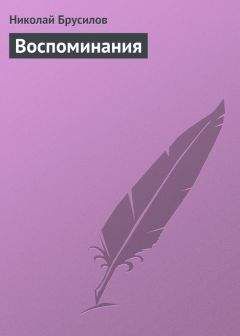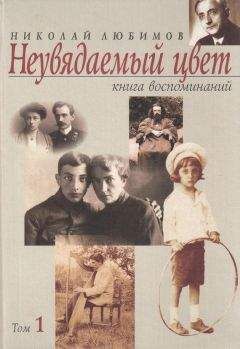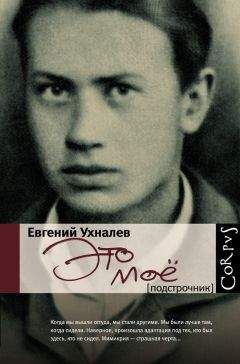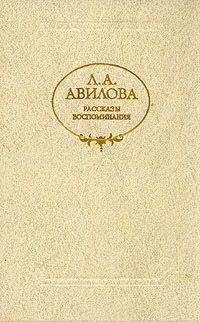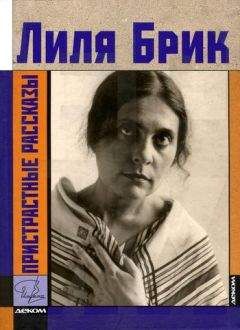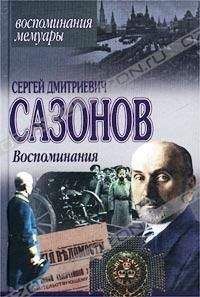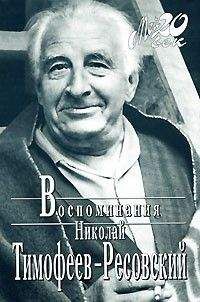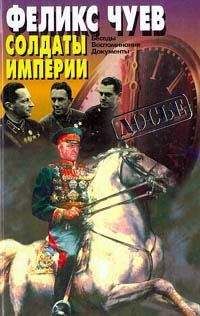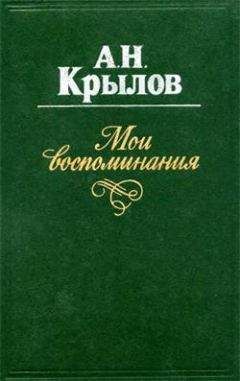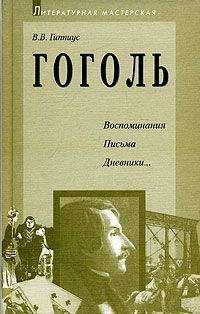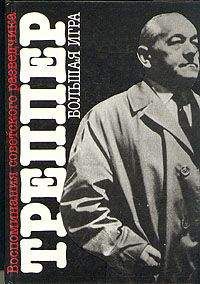Вениамин Каверин - Эпилог
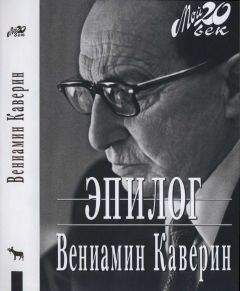
Все авторские права соблюдены. Напишите нам, если Вы не согласны.
Описание книги "Эпилог"
Описание и краткое содержание "Эпилог" читать бесплатно онлайн.
Книгу мемуаров «Эпилог» В.А. Каверин писал, не надеясь на ее публикацию. Как замечал автор, это «не просто воспоминания — это глубоко личная книга о теневой стороне нашей литературы», «о деформации таланта», о компромиссе с властью и о стремлении этому компромиссу противостоять. Воспоминания отмечены предельной откровенностью, глубиной самоанализа, тонким психологизмом.
Лучше всех Маяковского — предреволюционного — изобразил Пастернак («Охранная грамота»):
«Он в большей степени, чем остальные люди, был весь в явле-ньи. Выраженного и окончательного в нем было так же много, как мало этого у большинства, редко когда и лишь в случаях особых потрясений выходящего из мглы невыбродивших намерений и несостоявшихся предположений. Он существовал точно на другой день после огромной душевной жизни, крупно прожитой впрок на все случаи, и все заставали его уже в снопе ее бесповоротных последствий. Он садился на стул, как на седло мотоцикла, подавался вперед, резал и быстро глотал венский шницель, играл в карты, скашивая глаза и не поворачивая головы, величественно прогуливался по Кузнецкому, глуховато потягивал в нос, как отрывки литургии, особо глубокомысленные клочки своего и чужого, хмурился, рос, ездил и выступал, и в глубине за всем этим, как за прямотою разбежавшегося конькобежца, вечно мерещился какой-то предшествующий всем дням его день, когда был взят этот изумительный разгон: распрямлявший его так крупно и непринужденно. За его манерою держаться чудилось нечто подобное решенью, когда оно приведено в исполненье, и следствия его уже не подлежат отмене. Таким решеньем была его гениальность, встреча с которой когда-то так его потрясла, что стала ему на все времена тематическим предписаньем, воплощенью которого он отдал всего себя без жалости и колебанья.
Но он был еще молод, формы, предстоявшие этой теме, были впереди. Тема же была ненасытима и отлагательств не терпела. Поэтому первое время ей в угоду приходилось предвосхищать свое будущее, предвосхищенье же, осуществляемое в первом лице, есть поза.
Из этих поз, естественных в мире высшего самовыраженья, как правила приличья в быту, он выбрал позу внешней цельности, для художника труднейшую и в отношении друзей и близких благороднейшую. Эту позу он выдерживал с таким совершенством, что теперь почти нет возможности дать характеристику ее подоплеки.
А между тем пружиной его беззастенчивости была дикая застенчивость, а под его притворной волей крылось феноменально мнительное и склонное к беспричинной угрюмости безволье. Таким же обманчивым был и механизм его желтой кофты. Он боролся с ее помощью вовсе не с мещанскими пиджаками, а с тем черным бархатом таланта в самом себе, приторно-чернобровые формы которого стали возмущать его раньше, чем это бывает с людьми менее одаренными. Потому что никто, как он, не знал всей пошлости самородного огня, не разъяряемого исподволь холодною водой, и того, что страсти, достаточной для продолженья рода, для творчества недостаточно, и что оно нуждается в страсти, требующейся для продолженья образа рода, то есть в такой страсти, которая внутренне подобна страстям и новизна которой внутренне подобна новому обетованью».
14Я не пишу биографию Маяковского и не намерен посвятить остаток своей жизни изобличению уловок, подтасовок, которыми пестрят главы истории нашей литературы, написанные исследователями вроде Перцова.
Мне кажется, что давно пора взглянуть на поэму «Во весь голос» как на завещание, после которого Маяковскому (если бы он не покончил с собой) все равно не дали бы работать. Смерть открыла дорогу к славе, к тому самому «бронзы многопудью», на которое ему было «наплевать». Он заранее решительно отрекся от маршальского жезла, от звания «лучшего, талантливейшего поэта нашей советской эпохи».
Но дело было не только в том, что в первых же строках он отшвыривает в сторону будущих исследователей, которые, «роясь в сегодняшнем окаменевшем дерьме», откроют, что «жилде такой певец кипяченой и ярый враг воды сырой».
И не в том, что он наотмашь расплачивается с зощенковским «Борькой в полосатых подштанниках», который, переменив профессию, решил заняться литературой.
И даже не в том, что Маяковский «себя смирял, становясь на горло собственной песне», — ведь, с точки зрения рапповцев, он именно так и должен был поступить, причем не «рассудочно», а эмоционально (Селивановский).
Дело в том, что в накаленной атмосфере тех лет никто не нуждался в его прямодушии. Перед лицом наступающего десятилетия ему надо было заткнуть рот, потому что он слишком часто и слишком талантливо мешал тому, что должно было произойти не в «коммунистическом далеко», а в ближайших кровавых тридцатых годах.
Так же как искренний голос Зощенко странно звучал среди неумеренных восхвалений, львиный рев Маяковского, которому «агитпроп в зубах навяз», совсем некстати нарушал государственную тишину, которая, как паутина, год за годом все плотнее опутывала то, что совершилось, совершалось, намечалось в стране. Как известно, паутина оказалась настолько звуконепроницаемой, что мир поверил в ее существование лишь в семидесятые годы, с выходом «Архипелага ГУЛАГ».
«Правда — здесь». Устаревшая мысль! В поэме «Во весь голос» на нее нет и намека. Она осталась в «годах труда и днях недоеданий», когда в «Окнах РОСТА» Маяковский доказывал ее неоспоримую, как ему казалось, правоту.
15Один — друзей не было. «Вина перед другом» — так назвал свои воспоминания Шкловский (Октябрь. 1962. № 7). Лефовцы поссорились с Маяковским после его вступления в РАПП, не понимая — или не желая понять? — что означает для него этот шаг. «Из новых людей (чуть не забыл) были у меня раза два Семка и Клавка (Кирсановы. — В.К.). Хотели… познакомить с Асеевым — я не отбрыкивался, но и не рвался» (письмо к Л.Брик 19.3.30).
«Новые», разумеется, были старые — больше, чем ученики, как Кирсанов, и больше, чем друзья, как Асеев.
Одиночество и усталость: последнее выступление в Институте народного хозяйства 9 апреля: «В аудитории оказалась группа, враждебно настроенная против Маяковского и распоясавшаяся, поскольку Маяковского можно — и принято было — ругать. Хулиганы держались нагло, вызывающе. Парируя их выпады со свойственным ему остроумием, поэт прорывался со своими стихами к слушателям и в отдельные моменты покорял их. Но хулиганы-начетчики не сдавались. Один студент по фамилии Крикун заявил, что у Маяковского есть стихотворение, в котором на полторы страницы повторяется тиктак, тиктак. Составлявший протокол этого злополучного вечера участник молодежной бригады Маяковского, В.И.Славинский, записывал:
“Маяковский сходит вниз, садится на ступеньку трибуны, сидит с закрытыми глазами, прислонившись к стенке, едва видимый некоторым из публики. Мне стало страшно. Владимир Владимирович не держится на ногах и не просит принести стул. Я хотел принести стул, но посчитал неудобным бросить обязанности ведущего протокол. Я подумал: “Вот она, голгофа аудитории”» (В.Перцов).
На этом же вечере Славинский сообщил Маяковскому, что его портрет (которым редакция журнала «Печать и революция» намеревалась отметить двадцатилетний юбилей его деятельности) вырван из уже готового тиража.
«Друзья? У меня нет друзей. А иногда такая тоска — хоть женись. Вот иду в РАПП! Посмотрим, кто кого! Смешно быть “попутчиком”, когда чувствуешь себя революцией» — разговор с Н.Серебровым (А.Тихоновым). (Маяковский в воспоминаниях современников. М., 1963.)
Но никому нет дела до того, что он один и смертельно устал. Все заняты вырвавшимся у него признанием.
16Л.Кассиль в своих воспоминаниях (Маяковский — сам. М., 1963) рассказывает о том, как за два дня до нового, 1930 года на Гендри-ков (где жил Маяковский) приехал неожиданно Пастернак:
«— Я соскучился по вас, Володя! Я пришел не спорить, а просто хочу обнять вас и поздравить. Вы знаете сами, как вы мне дороги!..
Но Маяковский, медленно обернувшись, говорит, не глядя на гостя:
— Ничего не понял. Пусть он уйдет. Так ничего и не понял. Думает, это как пуговица: сегодня оторвал, завтра пришить можно… От меня людей отрывают с мясом!..
И тот, забыв шапку, выбегает в слезах на мостовую».
В своей «Охранной грамоте», написанной в 1931 году, вскоре после смерти Маяковского, Пастернак не упоминает об этой сцене. Но она бросает косвенный свет на все, что в этой книге написано о Маяковском, а написано то и так, как мог написать только великий поэт: «Привыкнуть нельзя было не к нему, а к миру, который он держал в своих руках и то пускал в ход, то приводил в бездействие по своему капризу. Я никогда не пойму, какой ему был прок в размагничиваньи магнита, когда в сохранены! всей внешности ни песчинки не двигала подкова, вздыбливавшая перед тем любое воображенье и притягивавшая какие угодно тяжести ножками строк. Едва ли найдется в истории другой пример того, чтобы человек, так далеко ушедший в новом опыте, в час, им самим предсказанный, когда этот опыт, пусть и ценой неудобств, стал бы так насущно нужен, так полно от него отказался».
Но это — о поэзии. Через несколько страниц Пастернак угадывает, а вернее, приближается к истинной причине самоубийства: «Человек почти животной тяги к правде, он окружил себя мелкими привередниками, людьми фиктивных репутаций и ложных, неоправданных притязаний. Или чтобы назвать главное. Он до конца все что-то находил в ветеранах движения, им самим давно и навсегда упраздненного.
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Эпилог"
Книги похожие на "Эпилог" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Вениамин Каверин - Эпилог"
Отзывы читателей о книге "Эпилог", комментарии и мнения людей о произведении.