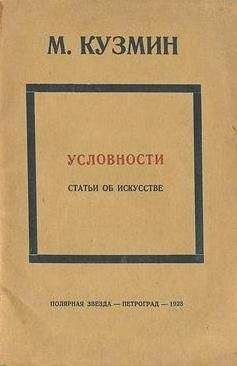Анатолий Луначарский - Том 6. Зарубежная литература и театр

Скачивание начинается... Если скачивание не началось автоматически, пожалуйста нажмите на эту ссылку.
Жалоба
Напишите нам, и мы в срочном порядке примем меры.
Описание книги "Том 6. Зарубежная литература и театр"
Описание и краткое содержание "Том 6. Зарубежная литература и театр" читать бесплатно онлайн.
В восьмитомное Собрание сочинений Анатолия Васильевича Луначарского вошли его труды по эстетике, истории и теории литературы, а также литературно-критические произведения. Рассчитанное на широкие круги читателей, оно включает лишь наиболее значительные статьи, лекции, доклады и речи, рецензии, заметки А. В. Луначарского.
В пятом и шестом томах настоящего издания собраны труды Луначарского, посвященные зарубежной литературе и театру. Материал расположен в хронологическом порядке; в шестом томе печатаются статьи о зарубежной литературе (1930–1933) и статьи о зарубежном театре (1905–1932).
Мы не имеем намерения следить за дальнейшим развитием Гёте, разбираться в его дальнейших произведениях. К тому, что сказано и чем в главном определяется подлинный, живой диалектический гётизм, надо прибавить еще некоторые черты старого Гёте, которые имеют существенное значение для понимания всего его облика.
Представляя собой идеолога буржуазии, во многом сдавшегося изживающему себя феодальному порядку, Гёте не чувствовал никакой симпатии к буржуазным началам в точном смысле слова. То, что Ленин называет американским путем развития, в отличие от прусского65, — если оно даже осознавалось Гёте, несомненно воспринималось им как нечто глубоко отрицательное.
Гёте был яростным врагом либерализма, демократии, революции. Однако при этом в Гёте говорила не только его реакционность, то есть не только те черты его социального облика, которые частью привели его к компромиссу с феодализмом, частью явились результатом этого компромисса. Надо, разумеется, беспощадно подойти к Гете-политику, поскольку он занимал эти контрреволюционные позиции и поскольку сейчас на него могут опираться в этом отношении все враги прогресса. Но надо все-таки еще и еще раз отметить, что Гёте своеобразно предвидел возможность каких-то других путей или, вернее, каких-то других форм справедливого упорядочения человеческой жизни. Не его вина, если в то время ему казалось, как и многим великим утопистам, что этот, так сказать, посткапиталистический порядок, что общество, организованное на разумных началах, могут сразу вытечь из феодализма и даже, может быть, при помощи «наиболее просвещенных» феодалов.
Никто так беспощадно не говорил о. Гёте-политике, как Энгельс, и мы вновь прибегаем к большим цитатам из статьи Энгельса против Грюна:66
«Обратимся к основному, вызвавшему столько толков вопросу, — к вопросу об отношении Гёте к политике и французской революции. Тут книга господина Грюна может нам показать, что значит идти напролом; тут в полной мере обнаруживается верность господина Грюна.
Чтобы отношение Гёте к революции получило свое оправдание, Гёте, само собой разумеется, должен стоять над революцией, она еще до своего возникновения должна быть преодолена им. Поэтому уже на странице 21 мы узнаем, что Гёте „настолько опередилпрактическое развитие своей эпохи, что, по его собственному утверждению, мог отнестись к ней лишь с отрицанием и не принять ее“, а на странице 84 при рассмотрении „Вертера“, который, как мы видели, уже включал в себе всю революцию, сказано: „История датирует 1789 год, а Гёте — 1889“. Точно так же на страницах 28 и 29 Гёте должен „в двух-трех словах разделаться с бессмысленным криком о свободе“: ведь уже в семидесятых годах он напечатал во франкфуртских ученых записках статью, которая отнюдь не говорит о свободе, требуемой „крикунами“, а высказывает лишь некоторые общие и довольно сухие размышления о свободе как таковой, о самом понятии свободы».
«Теперь в совершенно новом свете предстают перед нами изречения Гёте, относящиеся к революции. Теперь нам ясно, что он, который стоял высоко над ней, который уже пятнадцать лет тому назад „разделался“ с ней, сбросил ее с себя „вместе с изношенными подметками“, опередил на полвека, — что он не мог отнестись к ней с сочувствием, не мог заинтересоваться народом „крикунов“, с которым свел свои счеты уже в году от рождества Христова семьдесят третьем. Теперь для господина Грюна нет никаких трудностей. Пусть Гёте облекает в стройные двустишия самую банальную традиционную мудрость, пусть он делает ее предметом самых филистерских размышлений, пусть он испытывает самый архимещанский трепет перед великим ледоходом, угрожающим его мирному поэтическому уединению, пусть он доводит до предела свою мелочность, свою трусость, свое лакейство, — ничто не смутит его терпеливого схолиаста».
«Из „Осады Майнца“ господин Грюн ни в коем случае не хотел бы оставить без внимания следующего места:
„— Во вторник… я поспешил… выразить мое почтение… моему государю и при этом имел счастье услужить моему неизменно милостивому господину…“ и т. д. То место, где Гёте повергает свою верноподданническую преданность к стопам лейб-камердинера, лейб-рогоносца и лейб-сводника прусского короля господина Ритца, господин Грюн не считает нужным цитировать.
По поводу „Гражданского генерала“ и „Эмигрантов“ мы узнаем: „Вся антипатия Гёте к революции, так часто облекавшаяся в поэтическую форму, вызывалась тем, что он видел людей, изгоняемых из честно нажитых владений, на которые притязали интриганы, завистники и пр. … вызывалась самой несправедливостью грабежа… и тем, что все его домовитое, мирное существо возмущалось нарушением права владения, опиравшимся на произвол и обращавшим целые массы человечества в бегство, ввергая их в нищету“ (стр. 151). Поставим это место просто на счет „человека“, „мирное и домовитое существо“ которого чувствует себя так уютно в условиях „честно нажитого“, говоря просто, благоприобретенного владения, что бури революции, сметающие sans facon[19] эти условия, он объявляет „произволом“, делом „интриганов, завистников и пр.“.
Что буржуазная идиллия „Германа и Доротеи“ с ее робкими и благоразумными провинциалами, с ее причитающими крестьянами, в суеверном страхе бегущими от армии санкюлотов и от ужасов войны, вызывает у господина Грюна „самое чистое наслаждение“ (стр. 165), после всего сказанного не удивляет нас. Господин Грюн „спокойно довольствуется даже ограниченной миссией, которая в конце концов… выпала на долю немецкого народа. Не к лицу немцам продолжать это ужасное движение и бросаться то туда, то сюда“. Господин Грюн прав, проливая слезы соболезнования из-за жертв тяжелой эпохи и в патриотическом отчаянии обращая по поводу таких ударов судьбы свои взоры к небу. Ведь и без того немало есть испорченных людей и выродков, в груди которых не бьется „человеческое“ сердце, которые предпочитают подпевать в республиканском лагере „Марсельезу“ и даже в оставленной каморке Доротеи позволяют себе скабрезные шутки. Господин Грюн — честный, прямой человек, возмущающийся бесчувственностью, с которой, например, какой-нибудь Гегель смотрит на „тихие цветочки“, растоптанные в бурном ходе истории, и насмехается над „скупой канителью личных добродетелей скромности, смирения, человеколюбия и благотворительности“, выдвигаемых „против всемирно-исторических актов и их исполнителей“. Господин Грюн прав в этом. На небе он получит заслуженную награду».
«Высказанный Гёте взгляд, — „ничто не внушает большего отвращения, чем большинство, так как оно состоит из немногих сильных вожаков, из плутов, которые приспособляются, из слабых, которые ассимилируются, и из массы, которая ковыляет за ними, не зная и в отдаленной степени, чего она хочет“», — это типичное мнение обывателя, которое, в своем невежестве и близорукости только и возможно было на ограниченной территории немецкого карликового государства, представляется господину Грюну как «критика позднейшего» (то есть современного) «правового государства».
«Если мы находим в мире место, — так господин Грюн резюмирует Гёте, — где мы можем спокойно жить, не тревожась за то, чем мы владеем, имеем поле, которое нас кормит, дом, который нас укрывает, — разве там не наша родина?» И господин Грюн восклицает: «Разве эти слова не выражают подлинные стремления нашей души?» (стр. 32). — «Человек» носит redingote a la proprietaire[20] и обнаруживает себя и тут подлинным мещанином.
Немецкий бюргер, как всякий знает, лишь кратковременно, в молодости, мечтает о свободе. «Человек» отличается тем же свойством. Господин Грюн с удовольствием отмечает, что Гёте в позднейшие (годы резко осудил стремление к свободе, высказанное еще в «Гёце», этом «произведении свободного необузданного мальчика».
Ближайшее за Гёте поколение разделяло такие же идеи. Гётизм воспринимался передовиками непосредственно следовавшей за Гёте эпохи как нечто крайне отрицательное. Хотя Энгельс несколько раз называет критику Берне ограниченной, но за Берне стояло едва ли не большинство радикально настроенных демократов, а Берне, как известно, писал о Гёте:
«Он всегда только льстил бесчувственному эгоизму. Поэтому его любят бесчувственные люди. Он научил образованных людей, как можно быть образованным вольнодумцем, человеком без предрассудков и остаться эгоистом, как можно страдать всеми пороками без грубости, всеми слабостями без смешного, как прилично грешить и как облагораживать негодный материал при помощи красивой художественной формы. Он научил этому образованных людей. За это они почитают его»67.
Но, быть может, еще интереснее те блестящие и глубоко враждебные отзывы, которые посвятил Гёте первоначально столь восхищавшийся им Гейне, ведущий художественный гений послегётевского времени. Гейне пишет в своей рецензии на книгу Менцеля в 1828 году:
Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях.
Будьте в курсе последних книжных новинок, комментируйте, обсуждайте. Мы ждём Вас!
Похожие книги на "Том 6. Зарубежная литература и театр"
Книги похожие на "Том 6. Зарубежная литература и театр" читать онлайн или скачать бесплатно полные версии.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Отзывы о "Анатолий Луначарский - Том 6. Зарубежная литература и театр"
Отзывы читателей о книге "Том 6. Зарубежная литература и театр", комментарии и мнения людей о произведении.